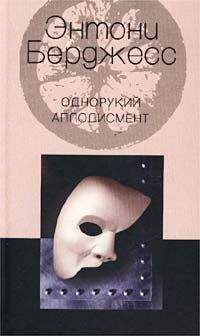– Ну, – сказал Говард, – а теперь, наверно, вам лучше идти.
– Вы разочаровали меня, – мрачным тоном сказал Редверс Гласс – Деньги дали, да, но, видимо, никакой больше помощи. Гостеприимство лучше денег. Я вас спрашиваю, я вас спрашиваю, разве мыслимо, чтобы я мог писать эту длинную поэму в гостиничном номере?
– Не пойму, почему бы и нет, – сказал Говард.
Я ничего не могла поделать, на меня опять накатило хихиканье. Я не знала, в чем дело, только было что-то в Редверсе Глассе, и оно внушало мне чувство как бы тепла и веселья, особенно когда Говард так сурово все это воспринимал.
– А вы сами попробуйте, вот и все, – говорит Редверс Гласс точно так же сурово. – Я бездомный. Мужчина, с которым я делил квартиру в Пимлико, женился, представьте себе, так что бедному Глассу пришлось идти прочь. И меня не хотят пускать в усадьбу предков, в дом сэра Персиваля Гласса, рыцаря. – Он протянул руки, более или менее так же, как протягивал их ко мне наверху из постели, и мне стало немножечко жарко и холодно. – Сэр Перси не верит в искусства, – сказал он, – кроме очень полезных. Его сын стал большим разочарованием для него. И куда же я мог пойти? Только к моему покровителю. Моему покровителю не следует думать, что он может рассматривать выдачу денег как окончание своих обязательств. Я желаю остаться здесь, вон в той комнате наверху, и работать вот тут, вот за этим столом.
– Думаете, я чокнутый? – сказал Говард.
– Нет, – сказал Редверс Гласс. – Думаю, вы щедрый, вот что я думаю. Мне нужен дом. – И, верьте не верьте, упал на колени.
– Встаньте, – очень сердито сказал Говард. Потом призадумался, а Редверс Гласс все стоял на коленях и подмигивал мне. – Сэр Персиваль Гласс, – говорит Говард через недолгое время. – Родился в 1899-м, женился на Пенелопе, единственной дочери Ричарда Баркера, в 1932-м, один сын, две дочери. Бумажная Продукция Гласса, старая семейная фирма. Произведен в рыцари за политические заслуги в 1956-м…
– Откуда вы это все знаете? – говорит Редверс Гласс с удивлением, вставая с пола.
– Это у него память фотографическая, – говорю я. А Говард говорит:
– Я кое-что другое в библиотеке искал. А вся эта белиберда насчет Гласса просто как бы на глаза попалась.
– Ну, вы же видите, правда? – взволнованно говорит Редверс Гласс. – Видите, что у такого мужчины нет времени на такого сына, как я.
– Не знаю, почему бы и нет, – сказал Говард. А потом сказал, как бы поразмыслив над этим: – Я скажу вам, что я с вами сделаю. Мы с ней, – говорит он, как бы немножечко грубо махнув головой в мою сторону, – собираемся вроде бы в небольшой отпуск. Нью-Йорк, Карибы и так далее. – На самом деле, он это сказал без особенной радости. – Можете присмотреть за домом, пока нас нету. Мы вернемся к ее дню рождения.
– Кого это ее? – говорю я. – Кошкиной матери?
На это Говард ничего не сказал. Он сказал Редверсу Глассу:
– Вы, – сурово, – поэт, который является наивысшим и самым запоминающимся типом писателя. – Он сказал это без особенной радости, точно так же, как про Нью-Йорк и Карибы. – Ну, – сказал он, – у меня для вас есть небольшая работа. Мы, то есть она и я, уезжаем через четыре дня.
– Так скоро? – воскликнула я.
– Мы неделю пробудем в Лондоне, – говорит Говард, – остановимся в «Кларидже», или в «Ритце», или в каком-нибудь подобном месте, прежде чем улететь из лондонского аэропорта. Так что, – говорит он Редверсу Глассу, – можете перебраться сюда в день нашего отъезда. Я заплачу ренту вперед, – говорит Говард, – так что вам беспокоиться не придется. Годится?
– Вас долго не будет? – сказал Редверс Гласс.
– До двадцатого января, – сказал Говард. – В этот день мы вернемся. И можете для меня сделать одно дело, раз уж вы поэт. – Он взглянул на меня и сказал: – Может, ты лучше выйдешь, любимая, и займешься своими покупками?
– А в чем дело? – немножечко раздраженно спросила я.
– Ничего особенного, – как бы загадочно сказал он. – Просто дельце, которое надо уладить. Я собирался его сделать сам, да зачем держать пса и гавкать самому?
– Я должна забрать шубу из норки, – говорю я. – Ее собирались немножечко переделать.
– Давай, – сказал Говард, по-прежнему глядя на Редверса Гласса. – Пойди посмотри корку, я хочу сказать, норку. – Деньги не имели значения. И я, заинтригованная, собралась уходить. А когда поднялась в спальню, чтобы собраться, вдруг явился Редверс Гласс, притворившись, будто хочет облегчиться, и под шум спущенной в унитазе воды меня обнял.
– Не знаю, какой номер, забыл. Спроси меня в администраторской, спроси меня.
И как дурочка, с какой-то точки зрения, я сказала да.
Кто я была – дура, сумасшедшая, порочная или что? Может, новый образ жизни, выбранный для нас Говардом, заставил меня сказать да и действительно собираться с ним встретиться в «Висячей лампе»? Просто не знаю. Необычное желание – пойти на свидание с мужчиной, которого только вчера в первый раз увидала; больше того, желание заняться с ним любовью, особенно когда еще любишь своего мужа. Так или иначе, я села в автобус (странно, при всех наших деньгах я по-прежнему села в автобус, главным образом потому, что противно звонить заказывать такси из телефонной будки, только я определенно взяла бы такси в городе возле муниципалитета и приехала бы в нем домой) и отправилась в город к тем самым меховщикам от Эйнштейна – имя очень знаменитое в каких-то других делах, кроме меховых, только не могу вспомнить в каких, – где меня поджидала прелестная норка, только надо было немножечко воротник переделать. Я уже за нее заплатила, конечно, чек прошел через банк, или что там с ним сделалось, так что меховщики сплошь кланялись и улыбались. Одно мне нравится в евреях – вежливость и внимательность, настоящее желание продать тебе чего-нибудь, в отличие от всех остальных людей в Англии. Приведу вам пример остальных работников магазинов в Брадкастере: я зашла в один крупный универмаг купить три дюжины нейлоновых чулок, а девушке было на это просто плевать, так что я говорю: «Не трудитесь», – и в ярости вышла. В любом случае, я в своей норке, представляя собой как бы картинку богатства и прелести, продолжала гадать, не пойти ли на свидание с каким-то всего лишь поэтом, к тому же немножечко грязным, неряхой; больше того, прийти к нему в спальню, в первый раз встретившись только вчера, когда он, во-первых, сожрал, точно волк, весь ореховый кекс, а во-вторых, напился так, что его пришлось укладывать в постель, где он и прохрапел всю ночь. Такова была моя новая жизнь, я могла делать все, что хотела, большое спасибо.
Было еще, наверно, немножечко рано смотреть, остановился ли Редверс Грасс в том отеле. Я решила пойти выпить абсолютно самостоятельно в «Ройяле», где был прелестный коктейль-бар с притушенными огнями, и к тому же я знала Агнес, служившую за стойкой бара, так как она когда-то была кассиршей в супермаркете на Гастингс-роуд. Когда я вошла в своей норке, видно было, все как следует посмотрели, и я очень гордилась, хотя сердце просто выскакивало, колотилось, по той или иной причине.
– Ну, – сказала Агнес, – разрази меня гром, – такая у нее была присказка. Она была модного типа платиновая блондинка с носом вроде клюва, и, поскольку народу в баре было немного, только что одиннадцать стукнуло, смогла как следует посмотреть и по-настоящему позавидовать. – Ну, – сказала она, – потрясающе, в самом деле. Прямо как у королевы.
Правда, и столько же стоило. Но я все-таки не прикидывалась важной леди, хотя была одета во все дорогое, кроме духов. Я купила очень большой флакон «Скьяпарелли Шокинг», однако на мой нюх в нем было меньше аромата или запаха, чем в том, чем я обычно пользовалась, а именно духами по разумной цене под названием «Джули», которые я называла «Джульетта». И вот я, как настоящая Джульетта, готовилась к очень тайной встрече со своим Ромео. Хорошо б, если 6 нам это дали бы прочитать в школе или сыграть, да там всегда говорили, будто нам на самом деле Шекспир не понравится, а зубрить его – это ж можно рехнуться. Так или иначе, я заказала себе двойной джин с очень сладким вермутом и спросила Агнес, чего она будет пить, и она сказала, то же самое. Потом я заказала еще, стала одновременно спокойнее и уверенней, но в то же время и больше разволновалась. Впрочем, ничего не разболтала, искушение всегда очень сильное, только очень опасно болтать с другой женщиной, даже с близкой подругой, попомните мои слова.
Ну, пора мне было идти, а коленки ужасно ослабли, и Агнес сказала:
– Выглядишь ты немножечко странно, моя дорогая, не надо бы тебе пить тот самый очень сладкий вермут. – А я говорю, со мной полный порядок.
Я ничего не сказала, во сколько вернусь, ведь, в конце концов, Говард сам мне велел выкатываться и идти за покупками, но подумала, если вернусь примерно в полвторого, будет полный порядок. Говард, в конце концов, съел хороший большой завтрак, и, в любом случае, сам мог уйти, я что-то помнила насчет дел в банке насчет заграничной валюты на ту самую поездку за границу. Почему во всем мире нельзя завести одни деньги – фунты, шиллинги, даймы, или там доллары, центы, – не знаю. Так или иначе, Говард сильно хмурился насчет заграничных денег. Значит, будет нынче утром раздобывать в банке деньги и аккредитивы, и всякие вещи. Я направилась с высоко поднятой головой – просто атас, как сказал бы мистер Слессор, – к «Висячей лампе», милому маленькому отелю, и пара городских субъектов более грубого типа, которые не работали, проводили меня старым волчьим свистом, но я высоко держала голову. Должна упомянуть, день был туманного и холодного сорта, но мне было тепло и чудесно. Чудесно. И тепло. Ясно?