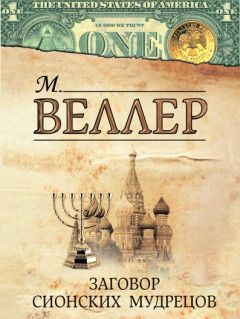— У меня в Доме прессы спрашивают: чьи это такие красавцы в газетную типографию вычитывать полосы ходят? — похвалялась мамка-Рита. — Это, говорю, наш «Скороход». От Зубкова, ой, они там вообще лежат. И Сережа Саульский, и Ачильдиев… — она обвела вокруг влажным взглядом, споткнулась на Иоффе: — Вообще все у нас красивые мальчишки!..
«Поплыла мамка», — пробурчал недолюбливавший ее Бейдер.
Спившийся вусмерть редактором «Ленинградского речника» Адик Алексеев, наш ответсекр, был и сейчас похож на пожухшее красное яблочко в очках. Зайдя сзади, он сжал визгнувшую дуру-Глухову за основательные немолодые бедра.
— Мэм! позвольте вас тиснуть! по-партейному! — молодецки гаркнул он и упал в проход между столами. Это был его коронный номер.
— Если сама знает кто опять нассала под раковиной — убью, — отреагировал Бейдер, оценивая градус встречи. Мы уже два раза сгоняли за добавкой на уголок, и всем было хорошо. Возвышенно. Хотелось беседовать о чем-то значительном, в чем мы разбирались лучше других, и тем самым льстить уже темой беседы.
— С-суки, что со страной сделали, — сказал германец Ачильдий.
— С какой именно? — осведомился Спичка.
— А ты закуси, — посоветовал Зубков.
— Знаешь, когда я понял, что уеду? — спросил парижанин Саульский. — Когда мы с Веллером как-то месяц обедали в кафе.
— Логично. Перед дальним перегоном надо поплотнее закусить, — кивнул Спичка, наложил сырный ломоть на колбасный, свернул в трубочку и сравнил ее размер с уровнем в стакане. — Во всем должно соблюдать пропорцию, — пояснил он. — Это я вам как гурман говорю.
— Пару раз мы и в «Метрополе» обедали, — уточнил я. — Помнишь, как какой-то козел прорывался к Никулину за автографом, а халдей принимал его на корпус?
— Это если у кого был корпус, — хмыкнул Саул, недавно бросивший бокс в семидесяти килограммах. — Ну и что? Что мы, много брали?
— Два помидорных салата, два мяса, два кофе и бутылку сухого, — процитировал я несложное традиционное меню.
— Ну, и сколько это стоило?
— Десять рублей.
— Вот именно! И сколько это получается в месяц?
— Триста рублей. Если обедать каждый день.
— А что, надо обедать не каждый? Сколько мы с тобой на двоих зарабатываем? Я сто сорок.
— А я сто двадцать. Сто тридцать с премией.
— Это вместе чего выходит?
— Двести семьдесят.
— Так… А три дня что — не жрать?!
— Ну, разгрузочные дни полезны.
— Блядь!!! Я не вагон, чтоб меня разгружать! А если я хочу обедать каждый день?!
— Хотение — бесплатно.
— Три дня не жрать! А если я еще хочу, например, купить носки?
— Не жри четвертый, — сообразил Иоффе.
— Или носки, или обед, — философски рассудил Андреев.
— Все суки! А если я хочу и носки, и обед?! Мы два на хуй журналиста, кончили Ленинградский университет, работаем не в самом последнем горчичнике, не идиоты, — мы что, не можем себе заработать и на носки, и на обед?
— Можем. Но не зарабатываем.
— На х-хуй мне такая жизнь???!!!
— Чего же ты хочешь, как спросил классик?
— Я хочу каждый день обедать! и при этом покупать себе носки!
— О? Ну так вали отсюда, — подытожил я.
— Куда?
— Туда, где каждый день обедают и ходят босиком, — поморщился Зубков. — Главное — чтоб не пообедали тобой.
— В Париж! — сказал я. — Как раз и женишься на Кристине, о чем она мечтает.
— На х-хер мне сдался этот Париж! Я живу здесь! и хочу здесь обедать! и ходить в носках.
— Так не бывает, — покровительственно улыбнулся автор ожидающейся первой книги рассказов и издатель Куберский. — Либо здесь без обеда, либо в Париже без носков. Надо уметь делать выбор, старик.
Саул хлопнул полстакана привезенного арманьяка — он приехал из Парижа с деньгами, не мог он такого позволить, чтоб он платил не больше других, — и свернул самокрутку из черного луарского «капораля».
— Вот и свалил, — пояснил он Бейдеру. — И эта страна меня больше не ебет, понял? Я здесь ходить боюсь. (Его наладили трубой по голове и сняли джинсы белой ночью прямо перед Русским музеем, где сейчас директорствовал муж Маринки Галко, и Саул посмотрел на нее с ненавистью.) Это не страна — это зона! А по зоне не гуляют — ее пересекают! Я пересекаю этот город на машине.
— Езди на машине, — покладисто разрешил Бейдер.
— Здесь только самоубийцы могут ездить на машинах! — взорвался Саул. (Он недавно перегнал новому русскому «мерс» из Парижа, незамедлительно вслед за чем, прямо в кабаке точки доставки, умудрился из старого боксерского куража схлестнуться с солнцевскими пацанами, которые не убили его только под авторитетом заказчика, но измочаленное тело выкинули на обочину невесть где, и он полгода лечил переломы.)
— Пожил бы ты в Израиле, да на территориях, поспал бы с автоматом под кроватью — тогда бы понял, что здесь еще курорт, — вздохнул Бейдер. — Лично меня от этой палестинской Касриловки уже тошнит. Все делается в Москве… мужики! На хрен я уехал? А… жена допилила…
— А теперь?
— Теперь там пилит. Тоже плачет.
— Возвращайся, — пригласил Андреев с нотой издевки.
— Россия — щедрая душа!
— Куда? Сюда? Я дурак, а не сумасшедший. Лучше воевать с арабами, чем с черносотенцами.
— Да брось ты эти байки про черносотенцев, — отмахнулся Гришка Иоффе, благополучно отбывший пять лет Магаданского края.
— Думаешь, в Германии мало неонацистов? — со светской безнадежностью поддержал тему Ачильдий.
— Зато в Эстонии их нет, — сказала жительница Таллина и эстофилка Алка Зайцева и махнула рюмку.
— То-то в сорок третьем году в Эстонию прилетал Риббентроп — лично поздравлять администрацию с тем, что Эстония стала «юденфрай», свободна от евреев, — гмыкнул Спичка. — Хотя… даже среди поляков я знаю одного, прилично относящегося к евреям!
— И я тоже, — поддержал Зубков.
— Видимо, это единственные два поляка, терпимые к евреям, — съязвил Андреев.
— Один, — сказал Зубков. — Это Кшиштоф, наш с Аркашкой друг. Мы знаем одного и того же поляка.
Он принял гитару и, улучшенный и вокально обогащенный вариант молодого Утесова, заполнил слух и сознание: «Давно уж мы разъехались во все концы страны…»
Голубоватые и прозрачные, как кисея, знамена реяли вместо стен. «Словно осенняя роща, осыпает мозги алкоголь», — пробормотал Саул. Страна распалась, разъехалась, дальние края загнулись и соединились, и она оказалась глобусом: крутится, вертится шар голубой. Внутри призрачного шара бились и не могли вырваться голая Мэрилин Монро, хриплый голос Высоцкого и пыльный комиссарский шлем.
После тоста за эту дольчу виту Саул забрал у Зубковича гитару и, глумливо глядя ему в глаза, заорал с надрывом: «Вот вышли наверх мы — но выхода нет!..» Зубков пропустил оскорбительный намек с достоинством британского парламентария.
— Ну, так что мы сейчас делаем? — спросила мамка-Рита, взглянув на часы. — Вроде и поздно уже.
Бейдер махнул рукой и выругался:
— Я только сейчас возвращаюсь в маршрутке из Тель-Авива домой в Иерусалим. Час от двери до двери. И так шесть раз в неделю… Туда машина отвозит, в Иерусалиме девять человек из «Вестей» живет, а обратно — обычно поздно…
— Я лично пью свою кружку пива в Мюнхене, — сказал Ачильдий.
— Рита, вы иногда бываете несколько бестактны, — вежливо заметил Зубков.
— Миша, извини, ради Бога, — деловито и без смущения бросила мамка. — Мальчики, я — все. Вы, если хотите, можете оставаться, только посуду потом составьте в раковину, а то уборщица утром ругается. А я пойду. Завтра буду к половине десятого. Все помнят — сдаем пятничный номер? Витя, не забудь, ты на первой полосе.
— Только не перепутайте опять Хитроу с Хосроу, Раиса Максимовна, — ехидно просипел закосевший Андреев. — Хосроу — это аэропорт в Лондоне, а Хитроу — это средневековый узбекский поэт. Так это наоборот! А если не знаете — так можете спросить у меня.
— Во-первых, — сказала Рита, — я Раиса Михайловна. До Раисы Максимовны еще десять лет жить. Не торопи события.
— А чего их торопить, они и так уже произошли.
— Тем более незачем торопить.
Она попрощалась. Мы разлили остатки. Стали сбрасываться по рублю. Кинули «на морского», кому бежать на уголок за парой флаконов.
— Михаил, — глубоким голосом спросил Зубкова Ачильдиев, — ты же заведовал Ленинградским отделением издательства «Наука», это не хрен собачий! Скажи хоть сейчас — с чего ты сделал такую глупость страшную?
— Погоди, — мелодично, красиво засмеялся Зубков, — хлебнете вы еще перестройки. И постперестройки. И постСССР. Напостовцы. Постовые. Разводящий — ко мне! остальные — на месте!
— Уже хлебнули, и ничего, как видишь.
— Вижу. То-то вы все торчите хрен знает где, аж голов не видно из этого самого, и занимаетесь кто чем.