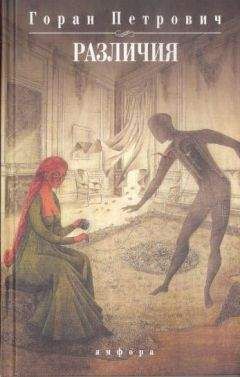С того послевоенного дня экономка осталась без денежного вознаграждения, да и договор, заключенный в прекратившем существование государстве, не имел больше силы. Но порой, то здесь, то там, случается, что человеку достаточно однажды данного слова. Кроме того, экономке вместе с сыном на вилле было обеспечено жилье. Хозяин пользовался только двумя комнатами и террасой. Остальные помещения она могла сдавать приезжающим на курорт, чтобы за счет этих доходов обеспечивать жизнь больного и вести свое хозяйство. Кроме того, то, что касалось музыки, было совсем не трудной работой, так, развлечение, нужно просто попасть иглой граммофона, а позже проигрывателя в нужное место на пластинке. Других, особых требований у ее подопечного не было. Зимой он читал. С начала весны до конца осени «дирижировал». Потом опять все сначала. Дочитав последнюю книгу из домашней библиотеки, он возвращался к первой. Новых не требовал. Да и «старая» музыка ему не надоедала.
Он даже не просил экономку вывозить его на прогулку, катать в коляске по дорожкам Врнячка-Бани. Более того, как только врачи окончательно подтвердили, что вылечить его невозможно, хотя встречались и шарлатаны, утверждавшие обратное, он отказался покидать комнаты на втором этаже виллы, а также принимать любых посетителей. В том числе и священников, время от времени сменявших друг друга в их приходе.
— Скажите, что я еще рано утром встал и отправился на прогулку, — распоряжался он с привычной горечью и сразу отворачивался. — И прошу вас, поставьте мою музыку.
— Для чего это вам? Я не понимаю, одно и то же, снова и снова! — повторяла из года в год экономка, и сама старея, так что обязанности по дому постепенно брал на себя ее сын, молодой человек с темными курчавыми волосами.
Одно и то же, снова и снова
— Правда, для чего это вам, Маэстро? Есть ведь и другие пластинки. Может, поставить для разнообразия что-нибудь еще? — спрашивал, примерно столь же часто, и ее сын, выполнявший то же, что и его мать, и только иначе обращавшийся к больному, который к тому времени был уже в преклонных годах.
Спрашивал. Напрасно. Маэстро никогда не снизошел до него, не удостоил ответа. Разве что дважды, в шестидесятые, а потом в восьмидесятые, согласился сменить граммофон, купить более современное устройство. Да и то только потому, что прежнее сломалось. Насколько непоправимо, выяснить не удалось. Уже давно не выпускали запасных частей для этой техники, не было и мастеров, которым хватало бы терпения ее чинить. Новые проигрыватели, правда, потребовали и новых пластинок с Третьей симфонией Брамса. «Мир все ускоряется, старые обороты больше не годятся», — негодовал Маэстро, ему требовалось известное время, чтобы привыкнуть к другому исполнению; конечно, Брамс всегда Брамс, но к каждому оркестру нужен свой подход.
Маэстро, так стали называть его и жители Врнячка-Бани. Нет, вовсе не в насмешку, скорее с некоторым, не совсем понятным им самим уважением, ибо никто не мог сказать, почему он выбрал именно такой способ скоротать неподвижные дни. Правда, они называли его столь уважительно всего пару десятков лет, а потом уважение разбавилось изрядной долей жалости. Между тем жалость — чувство, которое живет в людях недолго. Вскоре оно превратилось в легкую насмешку. А под конец и от нее ничего не осталось. Никто больше не обращал внимания на эту странную привычку, на это безумное, марафонское «дирижирование». У всех находились дела поважнее. Люди сюда едут и едут, о стольких вещах нужно позаботиться в течение сезона, кому какое дело до чудака, который кому-то там «машет».
Пожалуй, труднее всего к странностям Маэстро привыкала сноха бывшей экономки. Когда ее мужа мобилизовали, когда целых три времени года о нем ничего не было слышно, во время войны начала девяностых, она взяла на себя заботы о больном и, соответственно, все действия с проигрывателем, а к тому же в тот период Маэстро требовал, чтобы элегическая мелодия Брамса звучала гораздо чаще, чем обычно. «Хорошо ему, времени свободного много... Музицировать в такое трудное время это как-то негоже...» — ворчала она, но работодатель этого или не слышал, или делал вид, что не слышит.
Вот так все и шло потихоньку. Экономка давно умерла, у ее сына и снохи уже в зрелые годы родился свой сын, сразу после последней войны, это был мальчик с темными курчавыми волосами. Уже два года, как он заботился о больном, по крайней мере о французской двери, о террасе, растениях, которых становилось все меньше, и о том, чтобы музыка не умолкала. И он был первым, он был единственным из всех, кто не начинал сразу с любопытством спрашивать: «Маэстро, для чего это вам? Одно и то же, снова и снова?»
Куда девается столько музыки?
Мальчик спрашивал о другом. Ему было двенадцать, когда в конце того апреля он привел в порядок террасу, когда поставил на нужное место иглу проигрывателя и когда, где-то к концу того дня, покончив со всеми делами, решился, набрался храбрости и спросил:
— Маэстро, простите... Скажите только одно. Куда девается столько музыки? Что происходит со всей этой музыкой?
Старик развел в стороны руки
Неподвижный старик вздрогнул. Пристально посмотрел на мальчика. Печально улыбнулся и впервые ответил на вопрос, связанный с его странной страстью. Он приподнял обе руки, развел их в стороны насколько смог, словно представляя мальчику всю Врнячка-Баню, парк внизу, гору Гоч, долину Западной Моравы, всю страну, весь мир и даже больше.
— Куда девается? — проговорил он с усилием. — Я думаю... Я уверен, что она распространяется повсюду...
— Повсюду? — повторил за ним мальчик.
— Да, дитя мое, повсюду... — Старик снова развел руки в стороны. — Искусство обитает везде, но только музыка может беспрепятственно пронизывать пространство, проникать в каждую трещину...
Мальчик молчал. Почесывал у себя за правым ухом.
— В сущности... — продолжал Маэстро вдохновенно, — в сущности, я всю жизнь пытался сделать только одно. Ради этого, поэтому я и просил твою покойную бабушку, просил твоих родителей, а теперь вот изо дня в день уже несколько лет прошу и тебя ставить только одно место на пластинке, третью часть Третьей симфонии. Я пытаюсь... То есть рассчитываю, надеюсь... Если я повторю ее достаточно много раз, ее услышит весь мир, ее услышит и сам Господь.
— И сам Господь? — повторил мальчик с круглыми от удивления глазами, такого он не ожидал.
— Да, сам Господь, собственной персоной! — Маэстро убежденно поднял палец, указывая куда-то над парком, над Врнячка-Баней, над землей, над всем миром, прямо в небо, прямо в самую утробу вселенной. — А так как я не уверен, что Господь обратил бы внимание на мой ничем не выдающийся голос, и чтобы Он расслышал его в этом нашем гаме, я решил задать Ему вопрос с помощью музыки. Если Он оттуда способен что-то уловить, Он должен услышать скрипки, альты и виолончель, я думаю, именно из таких звуков сотканы небесные сферы...
— А что это такое, то, о чем вы, Маэстро, хотите спросить Господа? — Мальчику, в отличие от взрослых, такой разговор вообще не казался странным.
— Э-э, молодой человек... — задумчиво протянул старик. — Сначала я хотел этой печальной музыкой спросить у Него, почему я не могу ходить и при этом живу в таком удивительном месте, куда другие приезжают больными, а уезжают хотя бы на одну надежду более здоровыми. Почему я осужден всю жизнь любоваться на этот цветущий и благоухающий парк, а не могу и шагу ступить по его дорожкам, в то время как другие гуляют здесь целыми днями... Сначала я хотел спросить Его об этом, а потом захотел узнать у Него и много других вещей, ты еще мал, чтобы я пересказывал тебе всю свою жизнь. Ты еще мал, чтобы объяснять тебе, как люди познали многие тайны и вместе с тем утратили в себе человечность. Поверь мне, чего я только отсюда не видел, а с этого места я никуда не двигаюсь. Когда человек туда-сюда перемещается, когда он видит и то, и это, одно вытесняет другое, одно в другом растворяется, разбавляется. Но когда перед тобой вечно одна и та же картина, разница сразу бросается в глаза.
Старик начинал говорить медленно, а закончил резко, решительно. Сказал он совсем немного. Но что тут можно добавить? Его никто никогда не понимал, чего же ожидать от двенадцатилетнего мальчишки?
Может быть, только одного раза и не хватает...
— А дальше, Маэстро? — Теперь, после длинной паузы, палец к небу поднял мальчик. — Он вас услышал? Ответил?
— Нет, не ответил... Судя по всему, не услышал... — грустно улыбнулся старик. — Но, возможно, я просто ошибся. Может, следовало выбрать не Брамса. Может, нужно было, чтобы столько же раз прозвучал какой-нибудь французский, итальянский, испанский или сербский композитор. А возможно, и какой-нибудь русский... Рахманинов, например. Ты когда-нибудь слушал Рахманинова? Ну что же это я спрашиваю. Конечно нет.