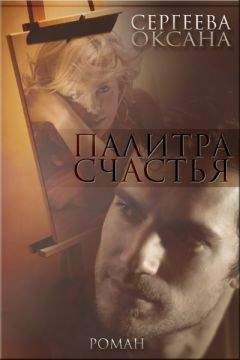Даже сам Рехциг нес к ним лишь полуправду. Неужели они не заслуживали прямого и честного разговора? С той же полуправдой приходила к ним и Серна Тимофеевна, знаменитая фольклористка, обошедшая всю Россию с фонографом и блокнотом, женщина по-командирски решительная. Она толковала им о сказках и былинах, в которых отражены благородство, ум, бесконечная доброта, но Димка, роясь в библиотеках среди старых книг с записями народного творчества, — вопреки его ожиданию и слонам Серны о пренебрежении к народу до революции, таких книг оказалось несметное множество, — удивлялся обилию нехрестоматийных рассказов и преданий, в которых проявлялись не одни лишь добродетели, но еще и обман, хитрость, жестокость, лукавство, и высшей мечтой нередко оказывалось лежание на печи, золотые хоромы и вкусная еда. В сущности, решил Димка, презирая и смеясь над царями и попами, автор сказки частенько и сам признавался в желании хоть недолго посидеть на троне и поваляться под балдахином. Димка понимал, почему это манило нищих и босых людей, какими, должно быть, и бывали большей частью сказители, люди перехожие, охотно прощал им это, но недоумевал, почему Серна Тимофеевна не замечает таких простых и очевидных истин. Слово «народ» было для нее по-книжному священным. Димка же не боялся заглянуть в глубь этого великого и бездонного колодца, он уже успел понять, что и Гвоздь — народ, и Чекарь, и молчаливый Арматура, и Евгений Георгиевич, и он, студент, мошка мелкая, тоже. И даже сам, человек, что выше всех, разве он — не народ? Он был частью народа, когда терпел лишения и беды, жил такой же жизнью, как и все, даже самые обездоленные, когда еще никто не мог предсказать будущего, что ожидало его; и что же, теперь, со звездой под воротником и с широкими шитыми золотом погонами, он уже перестал быть народом? Не несет в себе того, что присуще народу? После какой-то отметки, проставленной кем-то на линейке судьбы, он выпал из понятия?
Получалось, что для самых блестящих умов вуза они, студенты, то ли были недостойны истинного знания, то ли должны были войти в строгое русло ограничений. Но всякому давлению Димка привык сопротивляться. Молча, но сопротивляться. После многих лекций его особо манил мир «Полбанки» и других шалманов, где звучало живое слово, где никто не притворялся и не скрывал правды, даже неприятной, где души были открыты и уязвимы и где им, Димкой, интересовались: пусть и посмеивались, но и насмешка есть признание: и никто не пытался «раскидывать перед ним чернуху». Нет, были, конечно, на кафедрах люди, за которыми Димка готов был в огонь и воду. За одну лишь фразу полюбил он усмешливого, толстенького, лысого Бокри, который на экзамене, когда Димка в соответствии с тщательно записанными лекциями объяснил ему, что выражает собой Обломов (вырождающееся поместное дворянство) и что Штольц (растущую буржуазию), спросил его в лоб: читал ли Димка «Обломова»? Димка не успел прочесть, но сказать этого не мог — позор, позор! — и промычал что-то вроде: «Да, еще в школе, давно…» — «Ну, скажите, как вела себя вдова Пшеницына, когда Обломов попытался обнять ее и поцеловать?» Димка замялся в стал фантазировать. Бокри выслушал и сказал: «Нет, у Гончарова удачнее. Она стояла как лошадь, на которую надевают хомут. Дорогой мой, в этом и состоит смысл литературы, А это все, лекций, толкования и — это пиршество грифов, вы понимаете? Дайте зачетку и запомните это». И он поставил Димке — ошеломленному, потному — пятерку. Он поверил в него почему-то. И Димка навсегда полюбил промелькнувшего метеором Бокри, и еще он понял, что лекторы не совсем те люди, какими он их представляет себе по лекциям. Ему очень хотелось сойтись с ними поближе и узнать из их уст подлинную правду, наподобие той, что он узнал о литературе от Бокри, но он не знал, как это сделать. На курсе была маленькая группа образованных москвичей, которая знала, как дружить с профессорами, и знала, главное, о чем говорить с ними, но до этой группы Димка не дорос. Он тянулся к москвичам, расспрашивал, что они читают, — и так узнал о существовании Олеши, Хемингуэя, Бунина, которого, прочитав сноску в одной из книг, считал давно умершим белогвардейцем, так ничего и не сделавшим в литературе, — но между ним и кучно держащимися пятью-шестью москвичами всегда существовала стенка, и когда Димка обращался к ним, то видел хоть и дружественные, но все же насмешливые лица.
Он, Димка, в сущности, знал во иного раз больше, чем они, но эти его знания к учебным предметам отношения не имели. Он знал порядочно о войне и солдатской жизни, смерти, страдании, голоде… Особенно подавляли Димку веселые девушки с романо-германского, самого интеллигентного, отделения, дочки каких-то видных родителей, которые могли щебетать на нескольких языках. Димка, правда, сам не прочь был похвастаться своим полузнанием английского, сохранившимся еще с довоенных времен, когда бабка, мать погибшего отца, занималась с ним, читая детские книги, но говорить он не мог, а чтение брошюр и каких-то толстых книг на английском, рассказывающих о положении негров и мытарствах безработных, не вдохновляли его на изучение языка.
Случилось так, что на курсе Димка ни с кем близко не сошелся — общежитейские держались отдельно, москвичи — сами по себе, а Димкины интересы шли далеко за пределы университетских стен, к друзьям из шалманов, так что сидел он на лекциях обычно в гордом одиночестве. Лишь двое сокурсников, Изотов и Ефремов, сами недавно переехавшие в Москву с родителями и отличающиеся, как и Димка, серьезной нехваткой знаний, приятельствовали с ним, но оба были, по крайней мере в отношениях с Димкой, порядочными насмешниками и уже успели усвоить столичную манеру поведения, которая ускользала от Димки. И еще благосклонно, дружелюбно принимали Димку бывшие фронтовики, парни в гимнастерках, которые тоже держались своей компанией и в свои двадцать пять — двадцать семь лет выглядели старичками среди недавних выпускников школы.
Одно время увлекла Димку общественная жизнь, он бегал в какие-то подшефное школы, организовывал шахматные турниры, собирал взносы, по вот возник новый грозный вид деятельности — самоотчеты в группах, где студенты должны были рассказывать непременную правду о своей учебе и личной жизни в присутствии товарищей и выслушивать о себе нелицеприятное критическое мнение. Считалось, что именно так сможет, с помощью окружающих, вырасти передовая и высоконравственная личность, человек, достойный эпохи. Этих самоотчетов Димка испугался и слинял от активной общественной деятельности в сторону. Говорить правду, как требовалось, он не мог решиться, а лгать не хотел. Хоть он был порядочным завиралой, по только по вдохновению, в узком кругу, а лгать сознательно, расчетливо, перед целой группой, не умел и не хотел. В одной из групп при самоотчете возникло ЧП — Светка Орлова, девушка нервическая, до одури честная, вечно расчесывающая жирные волосы, призналась товарищам, что во время экскурсии в Ленинград оторвалась вместе с Гришкой от коллектива и на квартире у ленинградской тетки сокурсника имела с ним физическую близость. Самоотчет закончился рыданиями, собрание пришлось немедленно закрыть, а дело передать в факультетское бюро, где тоже растерялись.
Все это не вселяло никаких радужных надежд.
Утешали, конечно, совместные культпоходы, но с друзьями из шалмана было куда интереснее. Настоящая жизнь лежала за стенами университета.
С обычным смешанным чувством тоски и надежды на чудо входит Димка в огромную полукруглую — словно бы разрезанный поперек цирк — аудиторию, чтобы прослушать последние перед зимней сессией лекции. Сквозь приветствия, отвечая, улыбаясь и поднимая руку, он идет по лесенке наверх, на самую галерку, где можно скрыться от глаз преподавателя, которого, впрочем, мало волнует, хорошо ли его слушают. Отчим бы ужаснулся, увидев Димку на галерке. Он не раз твердил ему, что для достижения успехов в учебе необходимо садиться так, чтобы преподаватель видел перед собой твою усердную физиономию, — это скажется на экзамене или на зачете. И еще надо непременно задать вопрос в конце лекции. Отчим был четким человеком. Самое удивительное — он всегда знал, с кем дружить и зачем. Все эти уроки, однако, впрок не пошли. Димка оказался неблагодарным материалом. Забравшись на самую верхотуру, он расстилает пальто и усаживается так, чтобы, если будет слишком скучно, можно было прилечь. К нему подлетает вечный курсовой активист Нечипалов, мальчик, выросший в интеллигентной научной семье и мечтающий об аспирантуре.
— Дим, ты выступишь на конференции «Образ рабочего человека в послевоенной литературе»?
— А другой темы нет? Эту я не очень знаю.
— Нам прислали список. Я тебе дам книги, их немного.
Димка соглашается. Могли бы пригласить на самоотчет, а это было бы пострашнее. Он, вообще-то, по-прежнему любит всякую общественную работу, но только ту, от которой ощущает несомненную пользу. Любит ездить на картошку, ходить агитатором в рабочие общежития, где к нему обращаются с тысячью самых разных проблем, включая бытовые споры или надоедные квартирные дела, любит составлять всякие ходатайства и потом «пробивать вопрос» в райисполкомах, профкомах и министерствах, где с ним разговаривают как с равным и иногда действительно решают какое-либо не очень значительное недоразумение, к великой гордости Димки и к удовольствию просителей. Но вся эта работа не очень ценится в бюро и выше, что прекрасно понимают некоторые деловые сокурсники, предпочитающие выступать на разных диспутах и конференциях с правильными, написанными на бумажке тезисами в присутствии преподавателей и прочего начальства, благосклонно и покровительственно, как Гулливер лилипутов, принимающего речи краснощеких будущих профессоров.