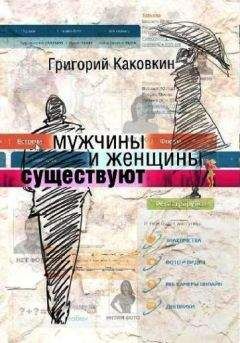— Чуткие люди работают у президента. Вот это подбор кадров! Но я не девушка по вызову…
— Я страстно… Я безумно…
— Не умно, — поправила его Тулупова. — Просто не умно.
— Я все беру на себя.
В ближайшем сквере они сели на лавочке, она была грязной и потому пристроились на ребре спинки. Было около двенадцати, прохожих немного, в основном прогуливались одинокие люди с собаками. Хирсанов открыл бутылку, продолжая все время говорить о себе, о том, что он делает сейчас очень важную, секретную работу, от которой зависит ни больше ни меньше — судьба страны, и поэтому сегодня у него тот единственный вечер, когда он свободен. Они встретились — и все не случайно, он мечтает, чтобы это произошло в библиотеке, среди книг, и она должна бы понять, потому что наверняка сама чувствует эротическую заряженность, исходящую от книжных стеллажей. Он захлебывался в похвалах, отпивал из горлышка коньяк и давал отхлебнуть ей.
— Со студенческих лет не сидел так на лавочке и не пил из горла, — сказал Хирсанов, когда запас слов подошел к концу.
— А я вообще никогда не сидела на лавочке и не пила из горла. Оказывается, это очень здорово.
— По приколу, — сказал Хирсанов. — По приколу.
Людмила посмотрела на седого пьяного мужчину — с вопросом: откуда такие слова?
— Моя дочь так говорит. Она на втором курсе иняза.
— Моя тоже говорит так. А сын говорит — “по чесноку”.
— За детей, — предложил Хирсанов, отпил из бутылки и отдал ее Тулуповой.
Два молоденьких милиционера появились внезапно, как из-под земли. Дальше все пошло по отработанному сценарию. Попросили предъявить документы. Хирсанов показал свою замечательную бордовую книжечку с черным штампом вездехода по президентским этажам, но она не произвела на милиционеров никакого эффекта, только раззадорила, обожгла скрытой под козырьками социальной ненавистью.
— Тогда вы должны знать, что распивать спиртные напитки в общественных местах запрещено. Вы разве этого не знаете, — холодно произнес один из них и прочитал по слогам незнакомую фамилию, имя и отчество: — Хирсанов Кирилл Леонардович?
У Тулуповой попросили “паспорт или заменяющий его документ”, но в сумке его не было, она поискала, не зная зачем, и сказала:
— У меня нет.
— Тогда, тем более, пройдемте, я вызываю машину.
И один из милиционеров по рации стал сообщать патрульной машине место, где они находились:
— …Тут в нетрезвом виде, распитие и сомнительная гражданка без документов.
Хирсанов моментально отрезвел. Он знал немало случаев, еще с советских времен, когда так, на пустом месте, ломались карьеры, просто от того, что из милиции в партком организации приходила бумага, и в постоянно идущей подковерной борьбе у одной из сторон появлялся неожиданный козырь. Он поискал в кармане деньги и, решив, что три тысячи хватит, предложил одному из милиционеров. Как будто с записанной на одной звуковой дорожке в одной невозмутимой интонации, как в метро объявляют станции, милиционер произнес:
— Дача взятки должностному лицу, при свидетелях.
— Ладно, ребята, кончайте шутить, — примиряюще сказал Хирсанов.
— Какие шутки, — отрезал милиционер тем же ледяным голосом. — Часть 2, статья 290. Должны знать, раз в администрации президента работаете.
— Женщина, вы гражданка России или Украины, у вас есть регистрация?
— Ладно, сколько вы хотите? — оборвал Хирсанов.
— Мы ничего не хотим, это вы хотите безнаказанно распивать в общественных местах. А мы ничего не хотим. Машина идет, поедем в отделение разбираться.
Хирсанов просчитывал варианты. Можно позвонить в президентскую службу охраны, но это если они не отнимут мобильный телефон, и все равно потом будет зафиксировано происшествие на компьютере федеральной службы. Можно позвонить водителю, чтобы он приехал, помог, но и это опять — сор из избы и быть обязанным, тем более что водитель хоть и свой человек, но, сто процентов, отчеты пишет куда следует. Ехать в отделение можно, но последствия неизвестны, в кармане было двадцать тысяч наличными и кредитная карточка. Хирсанов отозвал в сторону милиционера, которого чуть лучше рассмотрел: рыжеватый, прыщавый, с большими оттопыренными ушами.
— У меня есть только двадцать тысяч, и мы расходимся, — шепотом произнес он. — Это все. Мы погорячились — вы погорячились.
Ушастый ничего не ответил, подошел к напарнику, шепнул ему о сумме, названной Хирсановым. Второй, выдержав длинную театральную паузу, взглядом дал понять, что предложение принимается. Ушастый отвел Хирсанова в сторону и буркнул — “ну”.
Кирилл протянул пачку денег.
Через минуту милиционер вернул удостоверение Хирсанова и сказал по рации:
— Разобрались на месте. Отбой.
— Больше не нарушайте. Это центр все-таки, — по-отечески сказал один из милиционеров, и они растворились в ночной Москве так же быстро, как появились.
На лавочке стояла початая бутылка “Арманьяка”.
Хирсанова колотило от унижения. Такого не было никогда. Он чувствовал и понимал, что за порогом его кабинета, его круга начинается другая страна, он ее знал, анализировал, писал докладные записки, но вот несколько случайных шагов в сторону от привычной колеи и слезы накатываются от обиды и беспомощности. Какие-то нелепые и неверные планы мести возникали у него в голове, но он понимал, что бессмысленно искать этих милиционеров, хотя найти было совсем несложно, достаточно только позвонить, описать внешность, и их разыщут и накажут. Но он, с кем он тут был? Почему в сквере на лавочке? Кто эта женщина… и планы мести отступали.
— Хорошо, что тепло, — сказал Хирсанов, пытаясь сбить свой непрекращающийся поток расчетов вариантов и отыскать хоть что-нибудь хорошее в этой ситуации. — Тепло. Теплая ночь.
— А мне холодно. Иди ко мне. Обними меня, — сказала Людмила.
“Кто эта женщина? Что я с ней делаю? — подумал Хирсанов. — Зачем мне все это нужно? Все эти приключения? Я ее не знаю. Совсем. Какая-то баба с сайта”.
Он взглянул на нее в желтом свете уличных фонарей.
— Иди, — повторила Людмила. — Иди. Я тебя пожалею.
“У нее удивительное лицо”, — подумал Хирсанов и послушно сел рядом.
Людмила обняла Хирсанова, прижала к себе, и почти весь седой, немолодой Хирсанов превратился в маленького обиженного мальчика, которого приласкала взрослая тетя после дворовой драки, и больше ему ничего не надо объяснять, можно только всхлипывать и слушать, что до свадьбы все заживет.
“Мы им еще покажем”, — хотела сказать Тулупова, но не сказала.
— Мы им покажем! — со слезой в голосе говорила Юлия Смирнова, сжимая кулак и потрясая им в воздухе.
Они втроем, Марина Исааковна Шапиро, Юлия Львовна Смирнова и Людмила Тулупова сидели поздним вечером, запершись в заводской библиотеке над большим белым дефицитным тортом с названием “Полет”, сделанным из безе с орехами, и бутылками молдавского коньяка и шампанского.
— Мы им еще покажем, этим мужчинам, пусть только попробуют нас, замечательных красавиц, не любить! Пусть только попробуют!
— Юличка Львовна, не преувеличивай, что мы им можем показать, что они не видели? — сказала Марина Исааковна таким голосом, будто лично присутствовала при передаче Адаму пресловутого яблока.
— Что-нибудь да покажем, — вставила Тулупова.
— Что-нибудь им показывать вообще нельзя, — сказала Шапиро. — Что-нибудь надо беречь.
Каждая из женщин вспомнила о своей любовной истории, они были будто списаны, как школьные типовые контрольные работы, друг у друга. Шапиро — о поэте и художнике Сашке Куперстайне, о своем давнем институтском романе, он жил у нее два с лишним года, ради этого она пошла на разрыв с матерью. Потом все так долго, мучительно заживало, а он исчез в один день без следа, без записки, растаял, как лед на реке, и ничего не осталось. Не видела никогда, не слышала о нем. Вспоминала — да, даже скорее не вспоминала, а постоянно натыкалась, как на неверно вколоченный гвоздь. Копается в бумагах и вдруг его почерком записка: “Машка, “в траве лежал умерший дождь, остекленевшими глазами глядя в небо”[1] — это законченное стихотворение или просто строчка”?
Люда Тулупова который год мучилась с Сергеем Авдеевым и думала о нем постоянно. Ей то хотелось показать, как она его любит, как сильно, как самозабвенно, глубоко, жертвенно, то хотелось ему втолковать, что нельзя так с ней поступать, надо решиться, или он женится, или “уходит на все четыре”, и он соглашался — “хорошо, давай поговорим”, но приходил к ней с бутылкой. Она ее забирала, прятала, готовила вкусную еду, дети уже знали дядю Сережу как маминого жениха и даже, кажется, любили, а он вымаливал сто грамм “к такой закуске полагается…”. Она уступала, и он почти всю бутылку допивал сам, рассказывая до четырех часов утра о перипетиях российской военной истории. О том, что английские самолеты, приходившие в Отечественную по лэндлизу, были совсем не новые, на пределе своего моторесурса, что они уступали “мессершмитам”, а по углу атаки могли эффективно нападать только с высоты вниз. Он показывал это руками, увлекался деталями и высыпал на голову десятки цифр боевых и тактических характеристик. Набарражировав, он засыпал на кухонном диванчике.