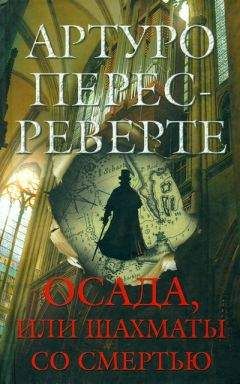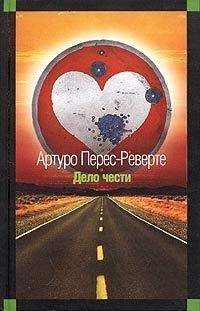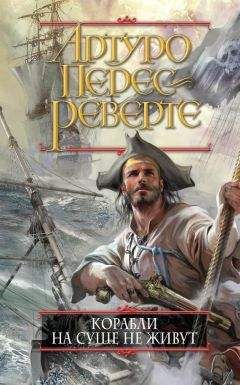— Рейсы будем совершать короткие: из Сан-Висенте до Гаты или, самое дальнее, до Палоса. Поменьше риска и побольше возможностей получить барыш… Деньги верные, твердо обещаю тебе. Две трети нам с тобой — пополам. Треть — капитану и команде. Все абсолютно законно.
Лолита Пальма глядит на запертую дверь:
— Что еще известно об этом человеке?
— В последних рейсах удача от него отвернулась, но моряк он хороший. Во время последней войны ходил Проливом. Командовал шестипушечной шхуной… Поначалу все шло гладко и приносило большой доход… Я-то знаю, потому что был одним из ее совладельцев. Но под конец не повезло: у мыса Трес-Форкас нарвались на английский корвет.
— Кажется, вы мне что-то рассказывали об этом капитане… Это не он бежал с Гибралтара?
Дон Эмилио одобрительно смеется — эти воспоминания доставляют ему удовольствие.
— Он самый. Вместе со своими людьми захватил и угнал тартану. С тех пор уже четыре года плавает на торговых судах, но совсем недавно вдрызг разругался с последним арматором.
— И с кем же именно?
— С Игнасио Усселем.
Старый негоциант, произнося это имя, вздернул брови и взглянул на Лолиту пытливо и многозначительно. Весь Кадис знает, что компания «Пальма и сыновья» не закрыла свой счет по отношению к фирме Игнасио. В пору кризиса девяносто шестого года Томас Пальма, потеряв из-за вероломства Усселя три важных фрахта, был на волосок от разорения. И Лолита Пальма этого не забыла.
— У нас есть подписанный Регентством корсарский патент на два года, — продолжает дон Эмилио. — Есть корабль на плаву, есть капитан, способный сколотить хороший экипаж. И есть занятое врагом побережье, мимо которого ходят туда-сюда корабли, французские и наши, из оккупированных провинций. Чего еще желать? И еще есть премии за сам факт захвата, не говоря уж о стоимости кораблей и груза.
— То есть вы, дон Эмилио, подаете это как исполнение патриотического долга?
Старик добродушно смеется. И это тоже, девочка моя, и это тоже. А заодно и свой интерес блюдется, и ничего дурного здесь нет. И ничего зазорного для коммерческой компании в том, чтобы снарядить корсара. Пусть вспомнит, что и Томас это делал, не моргнув глазом. И старался напакостить англичанам где мог. Стыдиться тут нечего. Это ж не работорговля.
— Ты ведь знаешь, я располагаю свободными средствами. И что могу найти других партнеров — тоже знаешь. Речь о выгодном помещении капитала. И я, как и раньше, долгом своим почитаю предложить это дело прежде всего тебе.
Пауза. Лолита Пальма по-прежнему смотрит на дверь.
— Испробуй его… Потолкуй, узнай, чем дышит, — ободряюще говорит дон Эмилио. — Он человек занятный… Прямой… Мне он как-то пришелся по сердцу.
— Вы, похоже, склонны всецело ему довериться? Так хорошо его знаете?
— Мой сын Мигель плавал с ним. В Валенсию и назад. Как раз когда эвакуировали Севилью и творилась черт знает какая паника. Да еще и в шторм попали. Ну так вот, он вернулся в полном восторге от него, все твердил, какой это на редкость толковый и хладнокровный человек… Это он, кстати, узнав, что Пепе — в Кадисе и без работы, посоветовал позвать его в капитаны «Кулебры».
— Он здешний?
— Нет, родился на Кубе, насколько я знаю. В Гаване, что ли.
Лолита Пальма рассматривает свои руки. Все еще красивы — длинные пальцы, не слишком выхоленные, но хорошей формы ногти. А Санчес наблюдает за ней. С задумчивой улыбкой. Потом встряхивает головой и говорит добродушно:
— В нем, знаешь ли, что-то есть… Какая-то внутренняя потаенная сила… Изюминка какая-то… Он не слишком изыскан, разумеется, может быть, даже немного грубоват… Слово кабальеро к нему не вполне подходит. Уверяют, он не очень-то щепетилен насчет того, что касается юбок.
— Пощадите, дон Эмилио! В хорошем свете вы его выставляете передо мной, нечего сказать…
Старик, словно обороняясь, выставил перед собой обе руки:
— Я говорю все как есть. Знаю тех, кто терпеть его не может и в грош не ставит, и тех, кто отдает ему должное. И, как говорит мой сын, сии последние отдадут за него последнюю рубаху.
— А женщины? Им что отдавать?
— Это уж ты сама решай.
Они переглянулись с улыбкой. У Лолиты она вышла невеселой и какой-то смутной. У дона Эмилио — в ней сквозит удивление и словно бы даже любопытство.
— Во всяком случае, — договорил он, — мы ведь его не на бал плясать зовем. А на мостик корсара.
Струнный перебор. В свете масляной лампы влажно лоснится смуглая кожа танцовщицы. Черные пряди прилипли ко лбу. Движется, как кобылица в поре, думает Симон Дефоссё. Грязная испанка, темноглазая испанка. Цыганка, наверно, думает он. Здесь все смахивают на цыган.
— Будем использовать свинец, — говорит он Бертольди.
Заведение набито битком: здесь драгуны, артиллеристы, моряки, линейная пехота. Только мужчины. Одни офицеры. Сидят на скамьях, табуретах, стульях вокруг залитых вином столов.
— Капитан… Неужели ты нигде и никогда не забываешь об этом?
— Как видишь. Везде и всюду помню.
Махнув рукой — ничего, мол, не попишешь, — Бертольди осушает стакан и тотчас вновь наполняет его из большого кувшина. В воздухе колышутся плотные полотнища серого табачного дыма. Терпко, остро несет потом из-под расстегнутых мундиров, раскрытых на груди сорочек, распахнутых жилетов. Кажется, даже ко вкусу вина — густого, но скверного, которое не веселит, а дурманит, — примешивается этот запах — едкий и какой-то мутный, под стать десяткам взглядов, неотступно следующих за каждым движением женщины, которая, дразняще изгибаясь и раскачиваясь, похлопывая себя по бедрам, пляшет под звон гитар.
— Ах, сучка… — бормочет Бертольди, не сводя с нее глаз.
И еще мгновение наблюдает за танцовщицей, лишь потом обернувшись к Дефоссё:
— Свинец, говорите?
Капитан кивает. Это единственное решение, говорит он. Инертный свинец. Бомбы по восемьдесят-девяносто фунтов, без пороха, без запальных трубок. Это увеличит дистанцию не менее чем на сотню туаз. А при благоприятном ветре — и того больше.
— Поражающее действие ничтожно, — напоминает Бертольди.
— Усилением его займемся позже. Сейчас важно добиться, чтобы долетало до центра города. До площади Сан-Антонио или куда-нибудь поблизости.
— Решились, значит?
— Окончательно и бесповоротно.
Бертольди, пожав плечами, поднимает стакан.
— В таком случае — за «Фанфана»!
— Да, за него. — Дефоссё слегка дотрагивается до лейтенантова стакана краешком своего. — За «Фанфана»!
Гитары смолкают. Гремят рукоплескания. Несутся восторженные выкрики на всех европейских языках. Танцовщица, гибко перегнув стан, отклоняет стан назад и, еще не успев опустить вскинутую руку, обводит публику взглядом чернейших глаз. Вызывающе и самоуверенно. Она знает, что теперь может выбирать среди тех, кого разожгла своим танцем. Инстинкт или опыт, в отличие от возраста немалый, подсказывают, что любой из присутствующих, стоит ей лишь остановить на нем взгляд, осыплет ей ляжки золотым дождем. Время для этого самое подходящее. Здесь в немалом числе да в нужном месте собрались мужчины в соку, а война вовсе не обязательно означает разорение. По крайней мере, не для всех: не для тех, у кого такое, как у нее, статное тело, такой темный взгляд. Размышляя об этом, Симон Дефоссё шарит глазами по смуглым рукам танцовщицы, замечая, как поблескивают капли пота в корсаже ее платья, с бесстыдной откровенностью выставляющего напоказ груди. Может быть, придет день, когда эта женщина, состарившись и увянув, будет умирать с голоду на какой-нибудь грядущей войне. Но уж не на этой. Достаточно лишь увидеть, как окутывает ее облако похотливых взглядов; с какой алчной расчетливостью, лишь слегка прикрытой деланой скромностью, оба гитариста — кто они ей: отец и брат? кузены? любовники или сутенеры? — сидя на низких стульчиках с инструментами на коленях, озираются по сторонам, улыбаются рукоплесканиям, прикидывают, откуда, из чьего кошелька донесется сегодня вечером самый сладостный звон. Почем пойдет нынче на скудном рынке женского тела предполагаемая честь их дочери, сестры, кузины, любовницы, подопечной, сколько отвалят за нее французские сеньоры, набившиеся в заведение в Пуэрто-Реале. Ибо одно дело отчизна и наш пресветлый государь дон Фернандо и другое — утроба, которая каждый день требует пропитания.
Выйдя на улицу, Симон Дефоссё и лейтенант Бертольди с облегчением ловят свежий бриз. Кругом темно. Большая часть жителей ушла с появлением императорских войск, и покинутые дома обращены в солдатские казармы, а патио и сады — в конюшни. Разграбленная церковь служит теперь пакгаузом и арсеналом, алтарь разломан и пущен на дрова для бивачных костров.
— Эта гитана меня разожгла, — замечает Бертольди.
Улица приводит их на берег моря. Купол безлунных небес над плоскими крышами приземистых домишек — весь в звездных россыпях. В полулиге к востоку, по ту сторону чернеющего пятна бухты виднеются далекие одиночные огоньки в неприятельском арсенале на Карраке и в городке на Исла-де-Леоне. Как это обычно и бывает, осажденные кажутся гораздо беспечней и свободней, нежели осаждающие.