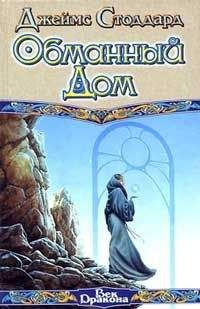Алла Григорьевна красивая и веселая, как в кино, в длинных платьях и с блестящими серьгами, непременно угостит чем-нибудь дивно вкусным и красивым — муссом с клубникой в большом квадратном стакане. Юрий Маркович со мной почти не разговаривает, не умеет разговаривать с детьми и не пытается притвориться, именно за это я его очень ценю — не пристает с одними и теми же вопросами. У него тик, оставшийся от контузии на войне — дергается щека и глаз.
К тому же мне нравится, что он говорит слова вроде «говнюк» или «да пошел он в жопу», и никто ему не делает замечаний, никто не закатывает глаза и не падает в обморок. Все почтительно слушают. Сколько всякого народу там перебывало!
После смерти Юрия Марковича жена его надолго уехала за границу, потом прошел слух, что дом она продала.
А недавно, проходя мимо, я увидела, что дом уже снесен и пустое место песочком посыпано.
Остается только вспоминать.
Помню и маму Юрия Марковича, Ксению Алексеевну, глубокую старуху, всегда с рюмкой коньяка и сигаретой. Алла Григорьевна ходила за ней, как за родной матерью, но она все равно больше любила бывшую невестку, Беллу Ахатовну Ахмадулину:
— Утром спускается по лестнице — да, нечесаная, да, с похмелья, но видно, что это небожительница, ангел, гений, понимаешь? — говорила она моей маме.
Значит, мама уходит к Нагибиным.
— Ну, давай, я с тобой. К Нагибиным?
— Нет. Я иду к Юре Трифонову.
Ну вот. Какая скучища!
К Нагибиным еще можно сходить с мамой, чудесные старинные вещи, коты и псы, но чего, скажите на милость, интересного у Трифонова? Тенистый участок, никаких животных, хмурый грузный дядька в очках и строгая Клавдия Михайловна, «домоправительница», подруга его покойной матери.
Мама же просто обожает ходить к нему в гости, и если, вернувшись с речки, или из лесу, или с велосипедной вылазки, я не застаю ее дома, значит, она напротив, через дорогу от нашего дома, у Трифонова — разговаривают и пьют чай, сидя по разные стороны большого стола.
— Юра, вы гений, — неоднократно говорила ему мама. — Именно по вашим романам потомки будут изучать нашу жизнь.
И он смущенно, хмуро улыбался — губы расплывались в улыбке, а большой лоб и брови хмурились.
Какая же ты, мама… Обещала пойти в лес, за земляникой, а сама в гости к этому скучному Юре…
Моя мама дружила с Трифоновым. То есть раньше они дружили все вместе, большой компанией — Трифоновы, Нагибины, Ваншенкины, Бондаревы, мои родители. К моей сознательной жизни компания рассосалась, но наша новая дача по Южной, дом 1, находилась как раз напротив дачи Трифонова (Южная, 4). Когда мама приезжала на выходные, она вечером шла в гости — или к Нагибиным, или к Трифонову.
И вот однажды девочки с соседних госстроевских дач подобрали гладкошерстного серо-полосатого котенка, такой типично помоечный вариант. Я всегда обожала и собак, и кошек, но мне не разрешали. Этого котенка они завернули в целлофан, чтобы от него ни чем не заразиться, и притащили ко мне. Мамы дома не было — к Трифонову пошла. С котенком в целлофановом пакете я поднялась на веранду к нашему хмурому соседу. Мама и Юрий Валентинович пили чай, сидя друг напротив друга за большим столом. Я начала робко канючить про котенка. Очевидно, маме было неловко при Ю. В. ругать меня и говорить «сию минуту убери эту гадость».
— Конечно, он очень миленький, — светским голосом начала она. — Но…
Должно быть, вид у нас с котенком был совсем несчастный, потому что Ю. В. сказал:
— Ладно уж, Алла, чего там, разрешите Ксюше взять этого бедного вульгариса…
Мама стала забавляться словом «вульгарис», хохотать и разрешила мне оставить котенка себе. Упрыгивая с веранды, я слышала, что Ю. В. как-то пошутил насчет гуманистических традиций русской литературы и ее представителей, и мама опять захохотала.
Котенок же отогрелся, отъелся, похорошел и был таков.
Мама очень гордилась своей дружбой с Трифоновым, а также и тем, что повесть «Другая жизнь» посвящена ей.
Да, там так и написано.
Хотя несколько раз я слышала, как она с некоторой обидой говорила о том, что Юра, которого она считала искренним другом, так плотно с ней общался и выпытывал, как и что она чувствует после утраты мужа, всего лишь потому, что писал повесть про вдову.
— Не забывай, что я вдова, — неприятным голосом отвечала мама на мои просьбы купить что-нибудь из одежды или кассетный магнитофон.
Конечно, ей было трудно одной поддерживать этот дом и сад. Всегда были какие-то рабочие-обманщики, маляры и строители, которые брали деньги вперед и запивали, делали плохо, так, что все тут же рушилось.
Какие-то Борисы, Вовы, Кольки, Мишки-цыганы, Юрики.
Но мама любила и умела дружить с «народом». Лифтерши, почтальоны, продавщицы в овощном, электрики ее просто обожали. Всегда она кого-то куда-то устраивала, кому-то помогала, отдавала вещи, дарила книжки.
Были еще на даче два Генки — Мазуров и Иванов, оба электрики. Когда-то давно они поехали вместе с папой на машине в Москву. (За выпивкой, я полагаю.) И машина перевернулась. Никто не пострадал, только папа сломал руку, пытаясь выкрутить руль. Из года в год, пока сами не умерли, эти Генки приходили в день аварии, сперва к папе, с чекушкой и гитарой, и пели ему заздравную песню собственного сочинения, из которой мне известен только запев:
— Товарищ Драгунский, приветствуем вам, извините, что в поздний час…
А потом и к маме. С чекушкой.
— Давай, Васильна, выпьем, помянем Виктора Осипыча…
И мама, самая «красивая женщина Москвы», обычно весьма разборчивая в знакомствах и отнюдь не лишенная сословных предрассудков, ничуть не чинясь, ставила им закусь и выпивала.
Последний раз я встретила Трифонова в конце лета восьмидесятого года. Он выходил из лесу с женой, Ольгой Романовной, грузный, в спортивном костюме, с лицом бледно-серого цвета.
— Вот какая ты уже большая стала, — хмуро улыбнулся он мне.
В марте восемьдесят первого он умер.
А уж потом я его книги прочла.
Вечные дачные темы.
«Надо ли воспоминать?..»
Трифонов — самый чеховский из всех писателей советского периода. Такой же ловец неуловимого и выразитель невыразимого. И та же константа состояния русского духа: чтобы быть вполне счастливым, необходимо быть крайне несчастным. Будничные, бытовые мучения. Бессмысленность и мимолетность долгой жизни, с которой не знаешь что делать. Повесть «Долгое прощание» — это же форменная «Чайка» середины двадцатого века.
Лишь бы только до романов Трифонова не добрались «сериальщики». Оборони, Боже…
Незадолго до смерти Трифонов родил сына Валю. То есть умер он, когда сыну было года полтора.
«Передовую общественность», или как сказали бы теперь — «тусовку», очень это интересовало, что вот, люди не второй и даже не третьей молодости заводят ребенка, потом отец умирает…
Нижнюю комнату у нас снимали две препротивнейшие старухи с детскими именами Муся и Геля.
— Это не его ребенок. Они его где-то взяли, — с мрачной безапелляционностью сказала Муся.
— Но он очень похож на Юру, — робко возразила Геля.
— Только если на Юру в гробу, — сказала Муся, и я вытаращилась на нее, ожидая, что за такую чудовищную гадость ее сейчас громом разразит или оторвется, отвалится, выскользнет, запрыгает по полу ее мерзкий язык.
Но нет…
Тетя Алла Нагибина все время норовит положить мне на тарелку «всего и побольше», подарить ненужную маечку с цветочками.
От этого я еще сильней стесняюсь и от стеснения гримасничаю.
Это теперь появились полчища детских психологов и всяких там специалистов, объясняющих, что детское гримасничанье — это нервный тик, с которым надо разбираться.
Меня же просто ругали.
Красавица-вдова и сирота-кривляка…
Итак, сирота и вдова. Бедные люди. Дачу содержать тяжело. Поэтому одну, а то и две нижние комнаты мама сдает жильцам.
Наши жильцы!
Очкастые «мнсы» из соседнего академгородка физиков Троицка, начинающие писатели, просто проходимцы, влюбчивые отцы семейств, арендующие комнату для известных целей, знакомые знакомых, пенсионеры-лыжники, омерзительные старухи.
Про одних только жильцов можно поэму написать.
Однажды гуляла по поселку шумная компания молодых, но уже известных людей, в том числе — режиссер Володя Грамматиков, композитор Алексей Рыбников и сценарист Вика Токарева. Искали дачи, чтобы снять.
Вика увидела мою маму и воскликнула возмущенно:
— Алка, ты почему совсем не постарела?
Мама обожала комплименты и, очевидно, именно поэтому комнату сдала тете Вике, а не ее спутникам.
Мое детское воображение тетя Вика потрясла тем, что ела сырые сосиски. Мама говорила, что Вика — засранка, что от нее муравьи (и правда, вместе с тетей Викой у нас появились мелкие муравьи, которые исчезли, как только она съехала) и что больше она Вику никогда не пустит, но тем не менее Вика прожила у нас несколько лет. Кроме мужа, который никогда не приезжал, и дочери Наташи у Вики был еще друг жизни по имени Касик — худой усатый дядька, вполне симпатичный и положительный. Он все время ревновал Вику и вроде даже поколачивал. Однажды я что-то делала у крыльца, конечно же чинила велосипед, и вдруг дверь в дом распахнулась, и со ступенек крыльца увесистым колобком скатилась тетя Вика, за ней, норовя попасть кулаком по ее широкой спине, спешил Касик, негромко, но эмоционально задавая ей какой-то вопрос, повторяя слово, которого не помню. Кажется, «Зачем?». Слетая с крыльца, тетя Вика встретилась со мной глазами и как-то странно улыбнулась — нахально, как всегда, и как никогда — жалко.