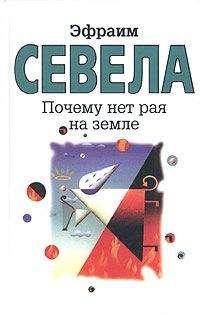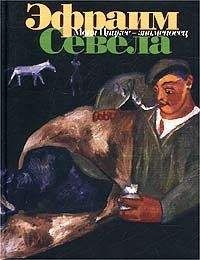Выход нашел Берэлэ. Он сказал, что понесет скрипку в руке, а деньги пусть остаются в футляре. Я защелкнул футляр на замок и понес, чувствуя приятную тяжесть внутри его. Я шел в середине, а Берэлэ и Маруся, как охрана, по бокам.
— Вот хорошие мальчики, — повторяла она. — Поможете мне до дому дойти. А то попадутся хулиганы и все отберут.
— Можешь не бояться, — сказал Берэлэ. — Ты под надежной защитой.
Теперь я не боюсь, — радовалась Маруся.
Она была босая, ее загорелые ноги, худые и исцарапанные, ступали по тротуару мягко, словно нащупывая, куда наступать. Как и ладони, ступни ног заменяли ей глаза при ходьбе, и она не спотыкалась, обходила трещины в асфальте и ямки.
Мы разговаривали всю дорогу, и она нас спрашивала, есть ли у нас мамка с папкой, и когда мы подтвердили, что имеем родителей, она снова улыбнулась нам:
— Хорошо, когда у человека есть мамка с папкой. Из чего мы оба поняли, что у нее родителей нет, и из деликатности не стали задавать лишних вопросов.
— А братики и сестрички у вас есть? — спросила Маруся.
Берэлэ сказал, что у него есть старшая сестра и брат, который старше всех.
Это хорошо, когда у человека есть семья, — вздохнула Маруся и, не ожидая наших вопросов, сама сказала, что она сирота и живет у чужих людей.
— А кто они, эти чужие люди? — задал вопрос Берэлэ.
— Харитон. Знаете такого? Харитон Лойко. Лодочник. На реке живет. Людей перевозит с одного берега на другой. Потому что мост от нас далеко и переехать через реку всегда есть желающие.
— Он тебя не обижает? — нахмурился Берэлэ.
— Не! — мотнула рыжей головой Маруся, и косичка, закрепленная на конце бантиком из кусочка марли, прыгнула со спины на грудь. — Он добрый, Харитон. Только горький пьяница. Все пропивает. Я потому и побираюсь, чтоб нам обоим с голоду не помереть.
— Он и эти деньги пропьет, — похолодел я, тряхнув футляром, в котором глухо зазвенела мелочь.
— Не, я не покажу ему. То наши с вами общие деньги. Вот выйдем к реке, сядем на берегу и поделим справедливо. Каждому свою долю.
У Маруси была золотая душа: она и меня включила в партнеры, хотя я был в этом деле только свидетелем, и больше ничего. Я понимал, если я считаю себя благородным человеком, то мне следует немедленно отказаться от предложенной доли, хотя если подсчитать всю эту мелочь, которая мне досталась бы при дележке на три части, то выходила круглая сумма, которой я прежде никогда в руках не держал. На эти деньги можно было все лето есть мороженое. И даже по два раза в день. Отказаться от такого подарка судьбы ой как нелегко, и меня раздирали внутренние противоречия с такой силой, что я стал бояться, как бы у меня не подскочила температура. Но всем моим сомнениям и терзаниям положил конец Берэлэ, сказав:
Ты, Маруся, про нас забудь. Деньги твои. Спрячь их подальше от Харитона. А завтра я снова приду, и мы соберем еще больше. И послезавтра. И послепослезавтра… Пока не соберем денег на билеты.
— Какие билеты? — удивилась Маруся, повернув свои незрячие глаза сначала к Берэлэ, а потом ко мне.
— А чтобы тебя… вылечить, — несмело сказал Берэлэ, подыскивая нерезкие, мягкие, нужные в таком деликатном разговоре слова и никак не находя их. — Чтобы ты стала зрячей… Чтобы ты могла видеть… Его… Меня… Речку… Харитона…
— Ну и скажете! — покачала головой Маруся. — Даже смешно становится. По каким таким билетам мне глаза откроют?
— По железнодорожным, — вставил я, как дурак.
— И он смеется, — обиделась Маруся.
Тогда мы наперебой стали рассказывать Марусе все, что нам было известно о знаменитом профессоре Филатове, о городе Одессе, который расположен на берегу Черного моря, где зимой и летом так тепло, что всегда можно купаться.
— А вокруг непроходимые джунгли, — сгоряча ляпнул я, но Берэлэ тут же внес поправку:
— Джунгли — это в Африке, но в Одессе тоже хорошо.
Маруся слушала наши захлебывающиеся речи, как сказку, и на щеках ее вспыхнул румянец.
— Какие вы умные, — сказала она, когда мы на миг умолкли. — И все-то вы знаете. И книжки читаете. И кино смотрите.
Я глядел на Марусю, на ее медно-красную косу с марлевой ленточкой на конце, на веснушки на разрумянившихся щеках, и вдруг явственно ощутил, какой это ужас — быть слепым. До моего сознания дошло, что Маруся была лишена такой простой радости, казавшейся нам, зрячим, чем-то само собой разумеющимся, как чтение интересных книг про приключения и путешествия. И что она никогда, ни разу не была в кино..
— И ты будешь все знать, — утешил ее Берэлэ. — Вернешься от профессора Филатова зрячей и пойдешь в школу. Ты нас быстро догонишь.
Маруся вдруг остановилась и запрокинула лицо к небу.
— Мальчики, — прошептала она. — Мне страшно.
— Чего тебе страшно? — хором спросили мы.
— Мне страшно подумать, — глубоко вздохнула она, — какого цвета у меня будут глаза, когда ваш профессор их откроет.
Мы на момент задумались, застигнутые этим вопросом врасплох, но Берэлэ быстро нашелся:
— Синие! У тебя будут синие глаза. Как небо.
— А небо синее? — удивилась Маруся.
У меня снова сжалось сердце, когда я понял, что она никогда не видела неба и до сих пор не знала, какого оно цвета.
— У тебя глаза будут голубые, — сказал я. — Как васильки. Ты знаешь такие цветы?
— Нет, не знаю, — покачала головой Маруся.
— А если карие глаза, что тоже неплохо, — добавил Берэлэ. — Они будут как вишни. Вишни-то ты, конечно, знаешь какие?
— Вишни сладкие, — сказала Маруся. — Я их ела… Мне Харитон из деревни привез гостинца. А какой у них цвет, не знаю.
А как ты знаешь, что такое цвет? опять ляпнул я.
А это мне Харитон объяснял один раз, когда не был пьян…
— Чего болтать зря, — перебил, махнув рукой, Берэлэ. — Съездим к профессору Филатову, он тебя вылечит за милую душу, и тогда ты сама все увидишь… И ничего не надо будет объяснять.
Мы уже вышли из города и шли лугом по тропинке. Маруся — первой, а мы за ней. Луг был низкий, мокрый. В траве кричали лягушки, и белая цапля на длинных ногах важно расхаживала по лугу, иногда наклоняя гибкую шею, и клювом, похожим на штык, что-то хватала в траве.
Потом сразу открылась река. Тот берег был пологий и порос камышом и лесом, а мы стояли на обрыве, и внизу на песчаную отмель набегала речная волна.
По реке скользила лодка. В ней сидело несколько человек и стояла безрогая черная коза. Лодка пересекала реку под углом, и ее несло к нам течением. Лодочник не трогал весел, и только слегка шевелил рулем на корме.
— Харитон едет, — сказала Маруся, устремив лицо к реке.
— Как ты угадала? — удивился я.
— Думаешь, слепая, так совсем бестолковая? — обернулась ко мне Маруся, и ее слипшиеся ресницы задрожали. — А на что мне уши? Разве не слышишь, как лодка режет воду? Послушай! Ну, слышишь? И Харитон кашляет. Он такую вонючую махорку курит, что после нее всегда кашляет. Даже ночью.
Я молчал, пристыженный. Вдруг Берэлэ осенило:
— Куда мы деньги спрячем? А то Харитон найдет и все пропьет.
— А давайте в землю закопаем, — предложила Маруся. — Вот тут, на берегу. Только вы, мальчики, место запомните.
Нам даже копать не пришлось.
Нашли подходящую ямку в песке, быстро опорожнили туда все, что звенело в футляре скрипки, присыпали песком и утрамбовали ногами.
Тут хороший ориентир, — сказал я. — Вот этот столб со спасательным кругом.
Берэлэ отмерил большими шагами расстояние от нашего клада до столба.
— Семь шагов к востоку, — авторитетно заявил он. Почему к востоку? — усомнился я. — Смотри, куда солнце садится!
Ну, к юго-востоку, — неохотно уступил Берэлэ.
— Вы, мальчики, не ссорьтесь, а хорошенько запомните, куда денежки закопали. Хорошо, что успели. Вон Харитон поднимается.
Когда лодка причалила, первой соскочила с нее на береговую песчаную отмель безрогая черная коза и от радости, что благополучно перебралась через реку, заблеяла на весь берег. У козы в бороде и на боках висел комьями репей, запутавшийся в шерсти. Затем неуклюже выбрались из лодки две крестьянки и, взвалив на плечи тяжелые мешки, пошли, согнувшись, не вверх по тропе, а вдоль обрыва, туда, где виднелось начало оврага. Коза запрыгала за ними, стараясь держаться подальше от воды.
Харитон привязал лодку цепью к сухому бревну-плавнику и, помахав нам рукой, тяжело полез по уступам к нам. Сверху мне была видна его спутанная седая шевелюра с клочьями сена в волосах, брови, такие же седые и усы, как у запорожского казака, рыжие от табака и опущенные концами вниз к подбородку. Когда он вылез на обрыв и вынул короткую трубку изо рта, я увидел, что у него почти нет зубов и торчат лишь два лошадиных зуба: один сверху, другой снизу. На Харитоне была серая застиранная рубаха, покрытая заплатами разных цветов, и штаны из серой мешковины, которые носят грузчики на пристани. Без обуви, босой, с толстыми, как ракушки, ногтями на пальцах ног, он был похож на колдуна из сказки или на разбойника, изгнанного из банды за дряхлость и теперь пробавляющегося на покое перевозом пассажиров через реку, а свою тоску по прежним удалым временам заливающего водкой.