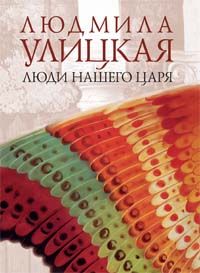Иван бросил свою основную работу учителя пения в школе, стал готовиться к поступлению. Маша радовалась, хотя и беспокоилась: матушкой быть непросто, большая ноша, а она была и молода, и слишком шустра и весела для такого звания. Вообразила, что получит Иван приход в хорошем месте, в маленьком городке или в большом селе, где люди добрые и неиспорченные, и природа не топтаная,- чтобы рядом речка, лес, дом с террасой… Она так красиво придумала, а потом испугалась: а ну как дети заболеют, а в деревне ни врачей, ни больниц. Спросила у мужа, как он думает дальше жизнь планировать: в область на приход или в городе?
Иван коротко жену обругал дурой, но она не обиделась. Ну, сказал и сказал, она про себя знала, что не дура, а про него - что характер трудный.
Ивана в академию взяли, и он теперь переехал в общежитие, дома появлялся редко, был строг с Машей и детьми, старшего Ваню, трехлетнего, даже побил, и машина мама Вера Ивановна плакала, но ничего ему не сказала. А Маша нисколько не расстроилась, только плечами пожала:
– Он им отец, пусть учит. Ведь с любовью же, а не со зла.
Но Вера Ивановна не понимала, как это можно бить ребенка с любовью, да еще за такую вздорную мелочь: тарелку с кашей перевернул!
Жизнь в Лавре накладывала новый отпечаток на Ивана: прежде он был щеголеват, одевался в хорошие костюмы с галстуками, любил цветные рубашки, а теперь, кроме черного, ничего не носил, и даже дома не снимал с себя полуказенной одежды. Шпынял Машу за розовые блузочки и пестрые бусы, которые она любила носить. Она послушно сняла бусы и бисерные плетеные браслеты, перестала носить пышный, в цветных заколочках пучок, вместо этого заплела волосы в косу и закрутила в скучный бабий узел. Только глазами все сияла и улыбалась с утра до вечера: сыновьям Ванечке и Коленьке, маме Вере Ивановне, окошку, дереву за окном, снегу и дождику. Мужа ее постоянная улыбка раздражала, он хмурился, глядя на ее сияние, спрашивал, чему это она так радуется, а Маша простодушно отвечала:
– Да как же мне не радоваться, когда ты приехал!
И сияла дальше.
Маша ожидала лета, каникул, надеялась, что муж поживет дома, повозится с малышами. Дети от него отвыкли за последний год, младший пугался и отворачивался, когда видел отца. Но на каникулы Иван в Перловку не поехал и крышу чинить не стал, как обещал Вере Ивановне: вместо того уехал на богомолье в дальний монастырь. Маша расстроилась, но не хотела матери показывать, что переживает, и потому все улыбалась по-прежнему, а Вере Ивановне сказала беспечно и глуповато:
– Да нам же и лучше, мамочка! Сдадим полдома дачникам, а осенью наймем рабочих и сами крышу починим, и просить никого не надо! А то ведь правда, что народ скажет: священник сам по крыше лазает?
– Да какой он священник, пока что никто…- ворчала Вера Ивановна, удивляясь на дочь: совсем глупая, что ли?
Сдали полдома дачнице, своему человеку, из прихожан храма: пожилая врач Марина Николаевна. На субботу-воскресенье к ней приезжала ее племянница Женя, тоже интеллигентная женщина. Иван, когда узнал, что сдали комнату с террасой, страшно рассердился, кричал, но дом, между прочим, был Веры Ивановны, о чем она ему и напомнила. Он собрал вещи в сумку и ушел, хлопнув дверью.
Вера Ивановна заплакала и попросила прощения у Маши, но Маша ничего не ответила, стояла у зеркала и косу расплетала и расчесывала, а потом сделала себе пучок по-старому, с заколочками.
А маленький Ваня к двери подошел и, потянувшись, крючок на гвоздь навесил.
Маша поехала к батюшке тому самому, что их венчал,- он теперь в другом храме был настоятелем,- и рассказала, как неладно дела идут в семье. Он ее поругал, что сдала комнату без спросу у мужа, велел впредь от мужа не своевольничать, а что он от них уехал на богомолье, то от того только одна польза и никакого вреда.
Осенью Иван приехал навестить жену с детьми, привез подарков, но больше духовного содержания, чем практического. Подарил икону заказную, двойную - Иоанн Воин и Мария Магдалина. Маша обрадовалась: она уже не знала, что и думать про мужа,- любил он ее или совсем разлюбил,- но подарок был со значением, это были их святые покровители, и, видно, он тоже их разлад переживал. Под вечер не уехал в Загорск, остался. А давно уже не оставался. И Маша была рада-радехонька. Она любила мужа всей душой и всем телом, и чувства ее поднимались той ночью, как волны на море, сильно и высоко, и сделала она движение между любящими как будто не запрещенное, но в их супружеском обиходе не принятое, хотя и волнующее чуть не до обморока. Иван стонал и вскрикивал, и Маша прижимала ему легонько рот пальцами, чтобы потише стонал, деток не разбудил.
Утром Иван просил Машу проводить его на электричку и по дороге сказал, что теперь она себя совершенно выдала, какая она испорченная и разгульная, а только всю их жизнь притворялась невинною, и что ни от кого не укрылось, что и детей она родила не от него, поскольку оба мальчика беленькие и голубоглазые, в то время как должны бы быть кареглазыми и темноволосыми.
Маша ничего ему не сказала, а только заплакала. Тут подошла электричка, и он уехал на ней в Лавру, учиться дальше на священника. Полтора месяца Иван не приезжал, и Маша взяла старшего Ванечку и поехала в Лавру субботним ранним утром, чтобы показаться перед мужем и ласково обратно к дому призвать. Маша приехала в середине службы, он в хоре стоял, но на нее не смотрел, хотя она приблизилась к самому клиросу. Он был очень красив, но лицо его было грозным, борода, прежде маленькая, хорошо постриженная, разрослась до груди, и он сильно похудел,- это даже под бородой было видно.
Когда служба отошла, она к нему приблизилась, а он рукой ее отвел, как занавеску, а на Ваню даже и не поглядел… Маше стало страшно от такого его жеста, а особенно от глаз, которые смотрели вперед и как будто мимо них,- как на иконе «Спас Ярое Око». Она сразу поняла, что пришла беда, но не знала, какая.
Больше Маша в академию не ездила, и он дома не бывал до весны. Весной приехал, в дом не вошел, вызвал ее на улицу и сказал, что дело его решенное: пусть сама подает заявление, что брак их недействительный, чтобы его отменили.
Маша не поняла:
– Разводиться с нами хочешь?
– Нет, какой тут развод, дети чужие, все обман был…
Маша сначала как будто улыбнулась, но сразу и заплакала:
– Ваня, да я же девушкой за тебя выходила, ты первый у меня, и единственный…
– Магдалина ты и есть, только нераскаянная… Я брака обманного не признаю,- твердо сказал Иван, а на жену даже не смотрит, все в сторону.
– Так венчанный брак, Ваня! Мы же перед Господом…- сквозь слезы лепетала Маша, но все было напрасно.
– Развенчают… Обманный брак развенчают!- сказал Иван как о решенном деле.
– А дети?- все упорствовала Маша, боясь потерять свое кривое счастье.
– Что дети? Не мои дети! Иди, делай экспертизу, тебе и анализы то же скажут,- не мои дети!
– Да сделаю я эти анализы! Ваня, наши это детки, Коля-то как на тебя похож, только светлый, а Ванечка, ты посмотри, ведь волосики у него потемнели, вырастет, как у тебя будут…- пыталась Маша развернуть разговор в хорошую сторону, но сила ей противостояла самая страшная, какая бывает: безумие. Оно было уже вполне созревшим, но пока было сдерживаемо внутри, и дикие подозрения облекались в логическую форму. Иван стал перечислять все машины прегрешения: как ходила к подруге на третий день после свадьбы, а была ли там, проверить теперь нельзя, но он-то знает, что не было ее там, и на концерт ходила два раза с мамой, только программа-то была не та, что она ему тогда объявила… Обман, всегда обман! А главное: она себя разоблачила, всю свою испорченность, когда после каникул он домой приехал, а она уж такое искусство перед ним выделывала, как последняя девка с площади…
И дальше, дальше множество всего, чего Маша не помнила, и, что главное,- ведь никогда прежде он никаких таких упреков не делал: неужто столько лет в себе держал?
Развелись и развенчались: в Патриархии Иван получил про то справку. Вера Ивановна удивлялась: таинство церковное, как это отменить можно? А крещение? А отпевание? А причастие само? Тоже можно отменить?
Маша детей на свою фамилию переписала. Как будто они ее, исключительно только ее собственные, без мужского участия рожденные! А Иван академию закончил и сподобился монашеского чина. Большая духовная карьера перед ним открывалась. Это уже через людей узналось.
Маша не столько даже горевала, сколько недоумевала, удивление пересиливало все прочие чувства. Она надела черный платочек, вроде траур, да и платочек шел ей как нельзя больше. В церкви к ней относились хорошо, хотя и сплетничали. Она теперь была не просто так, а с интересным несчастьем.
Лето было на редкость жарким, от черного платка пекло голову, и Маша недолго его проносила: надоел.
У нее было теперь две работы: в церкви и в народном хоре при Доме культуры. Ванечку готовили к школе, ему было шесть с половиной, но он был умненький, сам читать научился, хотел в школу, но с письмом справлялся очень плохо, и Маша сидела с ним в свободное время, писала палочки и крючочки. Занималась с ним также и дачница Марина Николаевна, и ее племянница Женя. А потом Женя привезла на дачу сына своих друзей из Риги, семнадцатилетнего Сережу,- он поступал в университет, но срезался, и остался пожить немного на даче, после плачевного провала. И к этому Сереже машины сыновья потянулись как к родному: все висели на нем, от себя не отпускали, а он с ними был так хорош, так весел, и они играли как ровесники - то в прятки, то еще во что…