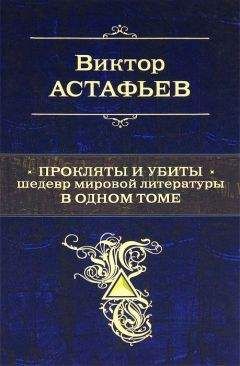Хутор на левой стороне сплошь горел, дотлевали стога за околицей, отсветы пожара шевелились на грозно чернеющей реке, достигая правого берега. По ту сторону реки было так светло, что беленький обмысочек островка, отемненный водою, виднелся половинкой луны. Лешка не сразу узнал островок – не осталось на нем ни кустика, ни ветел, ни коновязи – все сметено огнем, все растоптано, все избито. Чадящий хуторской берег сполз в протоку вместе со вспыхивающей соломой крыш, тополями и каменной городьбой. А на правом берегу, совсем близко, озаряясь огнем, лупил пулемет, в ответ россыпь автоматов пэпэша, отдельно бухали винтовочные выстрелы.
«Ба-атюшки! – ужаснулся Лешка. – Это сколько же погибло народу-то?!» – Лешка тут же спохватился, отгоняя от себя всякие мысли и, подхватив запасную катушку к телефонному аппарату, бросился под тень яра, чувствуя, что его нанесло на устье речки Черевинки. Ее он угадывал по серенькой выемке и по ветле, горящей сухо и ярко уже за поворотом. «Только бы порошок в мембране не отсырел, только бы аппарат не отказал, только бы…»
– Шнеллер! Шнеллер! – услышал Лешка над собой по рву топот и звяк железа.
«И это, слава те, пронесло! – порадовался Лешка, – пойди немцы по берегу – как муху смахнули бы». – Утратив осторожность, – все же устал на реке, со связью, – соображал плохо, разбрызгивая воду, держа автомат на взводе, перемахнул речку и упал за валуном или мысом, что блекло светился во тьме.
– Эй! – позвал он.
– Шестаков, ты?
– Я! – чуть не заблажил во все горло Лешка. Обалдевший от одиночества, находившийся, как ему казалось, в самой гуще вражеского стана, он даже задрожал, не от холода и голода, а от вдруг накатившего возбуждения.
– Тихо! – цыкнул на него из темноты майор Зарубин. – Как связь?
– Здесь, здесь. Она уже здесь, товарищ майор, здесь, миленькая, недалеко!…
– Мансуров, Малькушенко, прикрывайте нас. Шестаков, за мной.
Лешка схватил майора за руку и услышал пальцами разогретое дуло пистолета. Майор тоже дрожал. Стараясь негромко топать, они устремились от речки, под нанос яра, сыплющегося от сотрясения.
– Будьте здесь, товарищ майор! Вот вам автомат. Связист бегом достиг лодки, глуша ладонями звук и скрежет запасной катушки, воротился к майору, бросил катушку под осыпь, опал на колени, собрался вонзить заземлитель в податливую землю, но конец провода оказался незачищенным.
– Ах, Сема, Сема!… – Лешка рванул зубами изоляцию с провода и почувствовал, что рот наполняется соленой кровью – жесток немецкий провод, заключенный в твердую пластмассу, дерет русскую пасть, а наш провод зубами зачищался без труда, но и работал так же квело.
– Сколько вас осталось, товарищ майор? – шепотом спросил Лешка, зажимая провод в мокрых клеммах.
– Трое. Кажется, трое, – отозвался майор и поторопил: – быстрее!
– Готово! Готово, товарищ майор! Готово, голубчик! – вдавливая ладонью глубже заземлитель, почему-то причитал Лешка и, накрывшись сырой шинелью, телогрейкой и мешком, повторил давнюю связистскую молитву: – Пущай, чтоб батарейки в аппарате не намокли. Пущай, чтоб все было в порядке, – и, нажав клапан, неуверенно произнес:
– Але!
– Але, але! – сразу отозвалось пространство, кромешная тьма отозвалась знакомым, человеческим голосом, богоданный родной берег, казавшийся совершенно уже другим светом, недостижимым, как мирозданье, навечно отделившимся от этого грохочущего мира, говорил, голосом Семы Прахова. В другое время голос его казался занудным, бесцветным, но вот приспело, сделался бесконечно родным.
– Але! Але! Але! – заторопился Сема. – Але! Москва! Ой, але, река! Але, Леша! Але, Шестаков!… Вы – живые! Живые!
– Начальника штаба! Немедленно! – клацая зубами, подал голос майор из-под шинели, торчащей шатром.
– Третьего! Сема, третьего! – уже входя в привычный, повелительный тон штабного телефониста, потребовал Лешка, оборвавши разом сбивчивые бестолковые эти Семины «але!»
– Счас. Передаю трубку!…
– Третий у телефона! – чрезмерно звонким, как бы из оркестровой меди отлитым, голосом откликнулся начальник штаба артполка капитан Понайотов.
Лешка нашарил в потемках майора, разогнул его холодно-каменные пальцы, выпрастывая из них пистолет, вложил в руку телефонную трубку. Майор какое-то время только дышал в трубку.
– Алло! Алексан Васильевич! Алло! Алексан Васильевич! Товарищ майор! – дребезжала мембрана голосом Понайотова, – Товарищ пятый! Вы меня слышите? Вы меня слышите?
– Я слышу вас, Понайотов! – почти шепотом сказал Зарубин и, видно, израсходовал остаток сил на то, чтобы произнести эту фразу.
Понайотов напряженно ждал.
– Понайотов… наши-то почти все погибли, – заговорил, наконец, жалобно майор. – Я ранен. Нас четверо. – Зубы Зарубина мелко постукивали, он никак не мог овладеть собой. – Ах, Понайотов, Понайотов… Тот, кто это переможет – долго жить будет… – Зарубин, уронив голову, подышал себе на грудь, родной берег тоже терпеливо ждал.
– Мы хотели бы вам помочь, – внятно, но негромко и виновато сказал Понайотов.
– Вы и поможете, – пляшущими губами, уже твердеющим голосом сказал майор, – вы для того там и остались. Пока я уточню разведданные, добытые ребятами, пока огляжусь, всем полком, если можно, и девяткой тоже – огонь по руслу речки и по высоте Сто. Вся перегруппировка стронутых с берега немцев, выдвижение резервов проходит по руслу речки, из-за высоты Сто и по оврагам, в нее выходящим. Огонь и огонь туда. Как можно больше огня. Но помните, в оврагах, против заречного острова есть уже наши, не бейте по своим, не бейте… Они и без того еле живы. Прямо против вас, против хутора, значит, из последних сил держатся за берег перекинувшиеся сюда части. Пока они живы, пока стоят тут, пусть ускорят переправу главных сил корпуса. Свяжитесь с командующим, и огонь, непрерывный огонь, но… не бейте, ради Бога, не бейте по своим… – Майор снова остановился, прерывисто подышал. – Одной батареей все время валить в устье Черевинки, не стрелять, именно валить и валить, с доворотом. Иначе нам конец. Прикройте нас, прикройте!…
Понайотов – болгарин, был не только красивый, подтянутый парень, но и отличный артиллерист. Слушая майора Зарубина, он уже делал отметки на карте и планшете, прижав подбородком клапан второго телефона, кричал:
– Десятая! Доворот вправо! Ноль-ноль двадцать, четыре единицы сместить. Без дополнительного заряда, беглым, осколочным!…
Пока эти команды летели на десятую и другие батареи, в устье речки уже завязалась перестрелка.
– Будьте у аппарата, товарищ майор! Я помогу ребятам. Я помогу!
– Давай! В речку далеко не лезьте… Сейчас туда ударят…
Пули щелкали по камням, высекая синие всплески. Из-за камней от берега россыпью стреляли не двое, а пятеро или восьмеро человек, стреляли реденько, расчетливо. Лешка под прикрытием осыпи, запинаясь за камни, пробрался в развилок речки, залег, положил на камень автомат и, по вспышкам угадав, откуда бьют немцы, запустил туда две лимонки. Получилось минутное замешательство.
– Ребята, сюда! Под яр! – закричал Лешка. Несколько темных фигурок, громко по камням топая, ринулись к нему, запаленно дыша, упали рядом, начали стрелять.
– Молодцы! – паля короткими очередями из автомата, бросил Лешка.
– Мелькушенко там, – сказал Мансуров, – ранило его.
– Сейчас, наши сейчас… – Лешка не успел договорить.
За рекой, в догорающем хуторе выплюнуло вверх клубы огня и вскоре, убыстряя шум, пришепетывая, из темного неба начали вываливаться в пойму речки снаряды. Берег тряхнуло. Из речки долетели камень и песок, смешанный с водою.
– Раненых! Быстро! – перекрывая грохот взрывов, закричал Лешка, бросаясь за какой-то бугорок, сплевывая на ходу все еще кровавую слюну, смешанную с песком. Двух раненых удалось спасти. Мелькушенко и соседи его, бойцы, были убиты уже здесь, возле речки, может, немцами, может, осколками своих же снарядов. Десятая батарея будто ковала большую подкову в старой кузне, работала бесперебойно. Немцы в устье речки перестали стрелять и бегать, затаились.
– А-а-а, падлюки! Не все нас бить-молотить! – яростно взрыдывая, торжествовал Мансуров. – Лешка, давай закурить. У нас все вымокло.
– Сначала майора в укрытие перетащим, – сказал Лешка, – дойдет он. Перевязать его надо. И телефон ему.
– Дунули! – согласился Мансуров. – У тебя, правда, курить есть?
– У меня даже пожрать и погреться чем есть!
– Но-о?! – произнес Мансуров потрясенным голосом. – Живем тогда, – и, оттолкнувшись от земли, ринулся под яр, из которого обтрепанно сыпались и сыпались комки с травою, сочился песок.
Под мокрой шинелью возился и стонал майор, пытаясь перевязать самого себя. Пакет, обернутый в непромокаемую пленку, был сух, вата мягка, но мокрые пальцы майора обжигали тело, кровью склеивало пальцы.
– Ну-ка, товарищ майор, – полез под шинель Мансуров и грубовато отнял у Зарубина пакет, – Лешка, посвети в притырку.