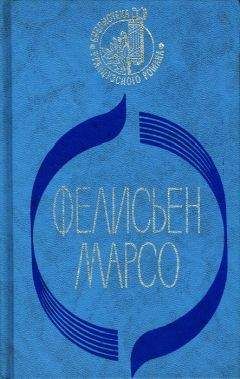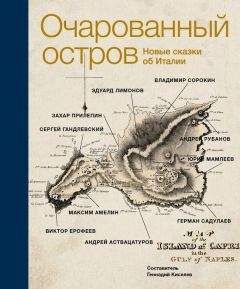— Все эти автомобили! Похоже, вот-вот прибавится еще шесть. А мы?
— Это и есть свобода, — в голосе кучера, похожего на турка, звучала глубокая ирония.
— Это их республика! — прокомментировал Флавио.
На Капри республика в общем популярностью не пользуется. Капри голосует решительно за правых. Почему? Поди, разберись. Может быть, потому что там легкая жизнь? Для Флавио она отнюдь не легкая. Впрочем, и Неаполь… Во всей Италии не найдешь такой нищеты, как в Неаполе. И Неаполь голосует за монархистов (причем все это началось не вчера, еще в 1799 году городская беднота расправилась с либеральными республиканцами). Солнце виновато? Но разве солнце за правых? В погоне за туристами? Флоренция тоже должна была бы думать о туристах. Однако Флоренция голосует больше за левых.
— А красота острова? Когда ты едешь в автомобиле, у тебя же ведь нет времени что-либо рассмотреть. Но людям все равно.
— Хе!.. — хмыкнул кучер, похожий на турка.
На острове всего три дороги, да и те совсем короткие. А остальное — улочки да тропинки. Когда-то, кроме гужевого транспорта, ничего не было. Теперь же, помимо автобусов, есть еще тридцать такси, более проворных, чуть более дорогих, но вмещающих больше людей. Поэтому коляски и лошади пользуются все меньшим спросом. Нередко Флавио проводит на своем сиденье целый день в напрасном ожидании. А шестеро детей! С шестью детьми его жена работать нигде не может. Много раз, возвращаясь вечером к себе домой в Анакапри, прислушиваясь к скрипу колес и созерцая знаменитый пейзаж от Сорренто до мыса Мизен, Флавио с тревогой думал о том, что готовит ему завтрашний день. Увидеть Неаполь и умереть, говорят люди. От голода?
Иногда, правда, к Флавио возвращалось присутствие духа. Душа у него хоть и старая, но легкая. Ей совсем немного нужно, чтобы взбодриться. В двадцать минут шестого площадь покинула тщедушная нерешительная пара: молодой человек в очках с курткой под мышкой и женщина в платье с изображенными на нем цветочками. Вид у обоих был нерешительный. А кучера, надо сказать, чувствуют нерешительность за сотню шагов. Малейшее колебание в походке, малейшее изменение во взгляде, и это уже брешь, брешь, в которую бросается кучер, бросается вместе со всем своим имуществом: со своей шляпой и пальто, со своей лошадью и коляской, с бубенчиками и со своими приглашениями. Пара не поддавалась, продолжая колебаться.
— Подожди! — сказала женщина по-английски. — Сначала договорись о цене.
— Но ты думаешь…
— Дядя Эдвард говорил…
Во всех буржуазных семьях всех стран из поколения в поколение передаются некоторые более или менее полезные указания, касающиеся Италии.
— No брать much money, — произнес Флавио.
Подобно путешественникам, сходящим на берег в Дакаре и начинающим говорить, обращаясь к местным на ломаном французском, кучера для общения со своими клиентами зачастую используют ломаный английский.
— Quanto? — спросил нерешительный клиент.
Из страха, что его облапошат, — такова мистика современного путешественника — он даже забыл сообщить, куда ему надо ехать.
— Триста лир, — ответил Флавио, которого такие пустяки нисколько не смущали.
— Двести пятьдесят, — поспешила отреагировать женщина.
Иногда они ведут себя совершенно нелепо, эти туристы. Когда в каком-нибудь слегка позолоченном ресторане метрдотель с бритым лицом представляет им счет на три тысячи лир, они не смеют возразить. Они не только не протестуют, но еще даже подумают про себя, не мало ли дали чаевых. А когда бедный кучер просит триста лир, они начинают так волноваться, что, кажется, вот-вот укусят.
— Официальная цена, — возразил Флавио.
— Он говорит, что это официальная цена, — сказал муж.
— Тогда…
— Стой, Гарибальди! — воскликнул Флавио.
И, повернувшись к клиентам, с усмешкой во взгляде заметил:
— Его зовут Гарибальди.
Он знал, что это обстоятельство обычно смягчает клиента. Но муж, очевидно, подумал, что Флавио показывает ему на какую-то достопримечательность, и стал озираться по сторонам с вымученной любезной улыбкой. Экипаж бодро катил по дороге.
— На Малое Взморье, — уточнила женщина.
— Да, да, мидам, — подтвердил Флавио. — Потом мы поехать Анакапри.
— Нет, нет! — возразил муж с ужасом. — Малое Взморье.
— Анакапри, вилла Сан-Микеле, доктор Мунт, интерестинг, прекрасное воспоминание.
— Нет, нет.
— Утром — Малое Взморье. Днем — Анакапри. Завтра — Большое Взморье. Я возить везде.
Повернувшись на своем сиденье, Флавио смотрел на своих клиентов добродушным взглядом людоеда, только что обнаружившего Мальчика-с-Пальчика и его шестерых братьев.
— For all — тысячу лир.
Муж колебался. Оптовая цена завораживает.
Но вмешалась жена.
— Нет. Сегодня Малое Взморье…
Экипаж начал спускаться к Малому Взморью.
Справа возвышались розовые и охряные скалы горы Сопаро, слева мелькали оливковые деревья и сквозь них — море. Гарибальди шел быстрой рысью, гордо выставляя вперед грудь, и желтое перо у него на голове колыхалось от порывов ветра. А Флавио запел во все горло «Фуникули, Фуникула». Нерешительный муж и угрюмая жена страдали. Оба предпочли бы любоваться пейзажем в тишине, но они принадлежали к той ноющей и несчастной породе людей, которая ссорится из-за цен, но не смеет сказать гиду, чтобы он пропустил зал, который им не нравится. И Флавио тоже страдал. После нескольких минут хорошего настроения вспомнились заботы, дети, жена, жаловавшаяся на боль в пояснице. А тут нужно еще и петь! Туристы — странный народ. Есть такие, кому ужасно нравится, когда кучер не только управляет лошадью, но еще и поет. Так они лучше запоминают лунный свет!.. Кучер, поющий старинную неаполитанскую песню! Эти итальянцы — музыканты в душе! Но сейчас было всего полшестого, кучер пел фальшиво, думал совсем о другом. Лошадь иногда ржала, и порой брызги ее слюны попадали на лицо супруги, которая от отвращения поджимала и без того узкие губы. А тут еще время от времени зад лошади имитировал звуки, какие производят ртом некоторые толстые профессора и некоторые жирные каноники, когда в чем-то сильно сомневаются.
Шесть часов.
С полудня до четырех часов Красавчик Четрилли провел на пляже и в воде: плескался, демонстрировал свой торс, весело ржал, отчего капельки воды дрожали на кончиках его ресниц.
— Я люблю спортсменов, — как-то призналась Лаура Мисси.
Что ж, он выглядел вполне спортивно.
Потом он пообедал с ней. А в четыре вернулся к себе — он жил в маленькой квартире на первом этаже одной виллы — и поспал. Затем в домашних тапочках и старых брюках спустился на кухню. Он любил коротать время вот так, в неглиже, заниматься какими-нибудь домашними делами: чинить лампу или ремонтировать сиденье унитаза… Иногда он проверял счета, запас продуктов.
— Бифштексы — слишком дорогое удовольствие. Возьми лучше печенку. Это тоже вкусно.
Кухаркой у него работала женщина лет сорока пяти с бесформенной талией и честным, но грубым и некрасивым лицом, шершавая кожа которого была покрыта черными точками.
— Печенка не всегда бывает.
Он сел за стол, где его уже поджидала на тарелке вареная лапша из желтого теста. Кухарка поставила перед ним чашку кофе с молоком.
— Ах! Моя старушка! — произнес он небрежно.
И не двигаясь с места, обхватил рукой ее бедра.
— Толстый боров, — в ее голосе звучали нотки восхищения.
Он заржал своим красивым ржанием и поднял к испещренному черными пятнышками лицу свои безупречные черты.
— Толстый боров, — нежно повторила она.
— Пошли, — сказал он.
Он встал, задрал юбку кухарки, положил руку на ее огромный зад, и они направились в спальню.
Вот таким образом красавцу Четрилли удавалось сохранять с другими женщинами то абсолютное хладнокровие, которое, по его мнению, должно было сводить их с ума гораздо надежнее, чем самые трудоемкие подвиги в постели.
Семь часов.
Госпожа Сатриано только что вернулась с площади. Она вошла в гостиную. Там сидели Форстетнер и Андрасси.
— Вот, — протянула она Андрасси пакет. — Это плавки. Я подумала, что для молодого человека, как вы…
Она смело посмотрела на Форстетнера.
— Купание в вашем возрасте очень полезно.
— О! Спасибо, синьора.
— Надеюсь, я угадала ваши размеры.
И она сильно покраснела.
— Не правда ли? Это было…
Она развернулась на каблуках и ушла в свою комнату.
Светила луна.
Дома были залиты лунным светом.
Массивные тени.
И еще Вос, и Мейджори Уотсон, и граф Танненфурт, бывший камергер Вильгельма II.
Вос — очень длинный, Танненфурт, два метра в высоту и соответственно — в ширину, Мейджори между ними — как маленькая девочка.
— Вот, — сказал Вос.
Он открыл калитку виллы Мейджори Уотсон, посторонился, подставляя свою длинную щеку для братского поцелуя.