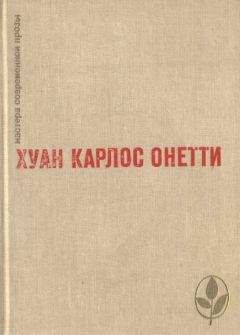XV
Маленькая смерть и маленькое воскресение
Под вечер Гертруда перешла с балкона в комнату. Я лежал, глядел в потолок и думал о револьвере, который недавно купил и держал на службе, в столе. Смеркалось теперь долго; я часто приходил домой засветло, и Гертруда, словами и молчанием, сообщала мне с балкона, что угасает день. Сам я выйти не смел, оберегая Арсе. За крупным, скорбным силуэтом и профилем, обернутым к реке, мне виделись серые дома, синяя мгла, последняя полоска света, и я ощущал порою радость, кротость, подчеркнутый интерес к смерти.
Сейчас мы разговаривали, а в промежутках беседы я думал о новом револьвере. Я видел, как он лежит в столе, среди бумаг и блокнотов, рядом с железками и стекляшками, винтами и пружинами, которые я поднимал с земли, когда раз в неделю шел в порт к потенциальному клиенту. Уже не слушая Гертруду, я пытался вспомнить номер револьвера и думать о нем как об имени. Гертруда улыбалась. Расставив босые ноги, она играла пояском халата.
— А потом что? — насмешливо спросила она.
— Да ничего! — ответил я. — Не знаю и знать не хочу никаких «потом». Разве что ты…
— Нет, я тоже. Мне и это не нужно.
Она повернула ко мне затемненное веселое лицо и пожала плечами, стоя спиною к сумеркам. Она играла, она радовалась, тело ее двигалось мягко и дерзко, как в юности. Поглядев на халат спереди, никто не сказал бы, какая грудь — искусственная.
— По-моему, мы теоретизируем! — воскликнул я, отводя взгляд от нее и от неба над балконом. — Тебе я хотя бы обязан верностью. Кому-нибудь другому…
— Нет, не так, — прервала она. — «Тебе я обязан хотя бы верностью». Разве не правильней?
— Не правильней, а глупей. — Я растянулся на спине, прикрыл глаза, сцепил руки где-то около паха и увидел необъяснимый блеск револьвера. Если бы я ощутил запах цветов, я бы умер. Я молчу, она терпит, но значит это не то, что я одинок, а то, что я не умею слушать. Таким я останусь. Такими были отец мой и дед, так я вынуждаю их меня простить.
Из-под опущенных век я увидел, как она подходит к кровати. Последний свет заката поиграл на одном ее глазу и спустился к вымученной улыбке.
— Как это нелепо, Хуаничо, — пробормотала она. — И правда, глупо. Я помню на память. «От меня отдаляешься ты, но, неверной опоры ища, приникаешь к теплу моему». Я не ошиблась? Как глупо!..
Я думал, что надо принести револьвер и спрятать его в комнате, в кухне или в ванной, где-нибудь в подходящем месте.
— Да не в том дело, — сказал я, воскреснув. — Не это важно — сомненья там, отрицанья… Я ни о чем не спросил, ничего не угадывал. Просто сказал тебе то, что вижу, и чувствую, и думаю против воли, машинально.
— Ну хорошо. Но разве тебе это неважно? — Улыбка ушла с ее лица и звучала в голосе. — Совсем?
— Не в том дело, — быстро сказал я. — Не в том дело. — «Если так пойдет, кончится постелью, а сегодня я не хочу, мне хорошо, я могу побыть мертвым». — Я сказал, что ты посвежела и повеселела. Я сказал, что, судя по твоему лицу, ты о чем-то думаешь, вспоминаешь что-то такое, что вызвало твою радость. Я сказал, что, обнимая тебя, чувствовал, как ты далеко.
— Да. Но важно это тебе или нет? Если так и есть, тебе важно? Очень?
— Что ж… Я бы этого не хотел. Ясно? Я не знаю, вынес ли бы я это. — Может быть, ей почудится смутная угроза. Может быть, она подумает, что мне тяжела любая ее измена, и успокоится. Может быть, она замолчит и оденется. — Мы опоздаем.
Но она не двигалась с места. Наверное, надо мной, в полутьме, мерцали улыбкой ее глаза. Я снова стал умирать, лежа на спине, растворяясь во мраке. Справа от меня кто-то прошаркал по площадке, остановился перед Кекиной дверью, исчез. Комната, из которой меня вытолкали и вышвырнули, была тиха и пуста почти рядом с моей головой. У левого виска сходились и несмело гасли вечерние шорохи, и безоглядная, старая грусть, и шелест весеннего ветра.
Отец, безвестный дед, и дальше, до невообразимых начал за моей спиной, сквозь страх и проблески надежды, кровь и роды… Вот я, мертвый; я — мгновенная вершина пирамиды из мертвых Браузенов, из бесстрастных, раздавленных, спекающихся вместе пяток, задов и плеч, из безличной будущей гнили, которая все же называется «Браузен». Все они подняли меня до уровня земли — не по доброте, не по злобе, не по своему желанию — для этого, ни для чего, только для того, чтобы я прорепетировал смерть и смирно посмотрел ей в лицо. Чтобы я вытянулся, и замер на постели, и полежал хоть один вечер, чтобы, оставаясь самим собой, я погрузился в ничто, а этому помогает молчание, которым окутала эта женщина мою неверную радость. Вот она с привычной и жадной печалью поглядела на последний, багряный луч моего мнимого конца; вот стоит и выкладывает что-то мне ненужное, stabat mater, stabat mater,[13] рядом с умирающим всегда стоит живой, слегка придавленный тайной, страхом и остатками любопытства, исчерпавшего все вопросы.
— Ах, что там! — сказала Гертруда себе и солнцу. — Важно ли, что мы опоздаем? Можем же мы поговорить! Ну конечно, можем. Мы доверяем друг другу, мы понимаем и так далее. Поговорить мы можем, но мне уже не хочется. Я могу все сказать, но поймешь ли ты? Если я скажу, и ты все поймешь, ты не поймешь, что я от тебя хотела. Чтобы понять меня как следует, ты должен страшно разозлиться, так разозлиться, что не сможешь меня понять. Да мне и это не нужно. Как будто я говорю с трупом, но с таким, который рассуждает без ошибки. Понимаешь, кончилась наша любовь. Мы знаем, мы столько говорили, что «любить» — значит «понимать». А на самом деле любовь живет, пока мы ничего не понимаем и еще способны ждать и бояться неожиданности, разлада, необходимости все понять сначала. Хуаничо, люди чувствуют ход годов, а я чувствую, что ноги у меня холодеют. Значит, радость моя не здесь и это не ты? Значит, я ночью прижимаюсь к тебе и вспоминаю причины для радости, которые выдумала днем, когда тебя нет? Это неправда, Хуаничо. Это еще неправда. Лечь мне или одеться? Сейчас лягу.
Я ощутил, что она ступила вперед и легла. Ее холодные ноги коснулись моих ног. Она свернулась клубочком, жарко засмеялась, ткнулась носом мне в ухо. Вполне возможно, что за стеной кто-то бесшумно двигался. Голос и дыхание Гертруды вынуждали меня воскреснуть, а я не хотел.
— Не двигайся, Хуаничо. Я вижу тебя, даже ноги. Я не хочу тебя касаться. Я очень тебя люблю, и все, что ты сказал, нелепо. Можно тебя тронуть? Конечно, можно, но я хочу, чтобы ты сам сказал. Я бы хотела, чтобы ты попросил. Никого у меня нет, никакого мужчины, и быть не может. Ты рад? Доволен, что никого нет? Да, доволен. Если ты думаешь, что я вру, почему ты меня не бьешь? Лучше бы ты разозлился и побил меня. Только не надо говорить. Не говори. Это неправда, но, если бы это было правдой, разве мы бы поняли друг друга вот так, с помощью слов? Хуаничо хороший, у него есть принципы. У меня их уже нет. Наверное, в этом я и переменилась.
Тогда я встряхнул головой, чтобы отрешиться от бесчисленных и священных ран, хрипов и капель пота, которые предшествовали мне в длинной цепи Браузенов, от опять и опять повторяющихся Хуанов, Хосе, Антонио, Марий, Мануэлей, Карлосов Браузенов, рассыпавшихся прахом в европейской и американской земле.
— Не трогай меня, — сказал я.
— Хорошо. — Пальцы ее разжались, губы отдалились от моей шеи. — Я только хотела знать, важно тебе или нет. Сейчас оденусь.
Может, мне и впрямь неважно. Но ей нужна моя ревность, хитро отмеренная доля скрытой досады, холод, замкнутость, косой взгляд, не доводящие, однако, до ссоры, которая вынудила бы ее сдаться. Сейчас и впредь ей нужна моя ревность, и еще ей нужно знать, что я не слишком страдаю, иначе она не сможет быть с другим, если он есть. Ей это нужно знать и затем, чтобы, лежа со мной, умиляться, распаляться и каяться.
— Нет, наверное, ты не страдаешь. Если бы я думала, что страдаешь, я была бы счастлива, — громко сказала она в потолок. Потом подождала. Теперь стемнело совсем, и я ощутил, что она напряженно ждет.
У Кеки хлопнула дверь, вошли двое. Я услышал незнакомый смех, какой-то невнятный вопрос. А револьвер, должно быть, тихо спит в маленьком, легком столике, похожем на парту; он знает, почему раз в неделю я останавливаюсь у рельсов, в порту, и поднимаю стеклышки, ржавые железки, какие-то болты.
— Сейчас оденусь, — сказала Гертруда, и я услышал, что она открывает шкаф, спускает жалюзи, входит в ванную. Теперь, в тишине, рядом со мной не было никаких звуков. Не знаю когда, не знаю за что, но я вернусь туда и убью Эрнесто. Да, я не знал, когда убью; зато я знал, что отдал бы сто молодых Гертруд с двумя грудями и всего Браузена за те минуты, когда мы с Кекой лежали на столе, или хотя бы за то, чтобы снова увидеть на ее лице ощутимую трусость и тяжкое отвращение.
Я услышал, как поет Гертруда под душем, представил себе ее тело, и понял, что она сама, и речи наши, и действия нудно и тускло повторяют то, что было в прошлом. Незачем стараться и печалиться, ничего не изменишь. Голос Гертруды снова и снова перекрывал шум воды и падал, словно лист под дождем. С тех пор и уже навсегда я избегал споров, бестрепетно восхищался новыми платьями, молча вдыхал нежданные запахи и кидался в постель, когда за окном смеркалось, чтобы слушать звуки в соседней квартире и ждать в темноте Гертруду.