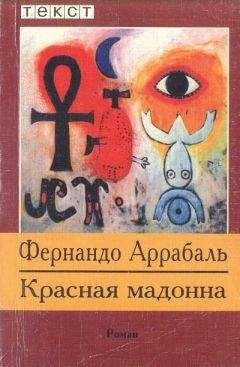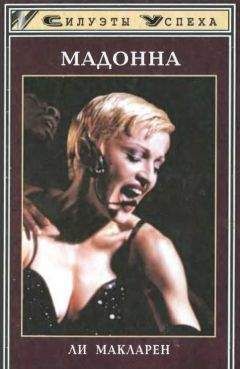Они мечтали завлечь тебя, залучить в стадо позитивистов. Самый оголтелый прозелитизм лился в твои уши. Непоколебимая решимость совладать с твоим инакомыслием витала над тошнотворным фимиамом. Твое знание лишало всякого смысла их пустые убеждения и столь банальные методы. Вот почему они так старались сделать тебя овцой в своем стаде — любой ценой, даже рискуя погасить свет, озарявший твой разум.
В ночь после митинга мне приснилось, будто ты надевала костюм укротительницы на сцене театра под открытым небом. Из суфлерской будки, шипя, выползала змея. Ты смотрела на нее в упор, и под твоим взглядом она укусила собственный хвост и стала замкнутым кругом — символом равновесия, гармонии, единения и родства душ. В центр круга ты поместила табличку с надписью: «Дружба».
IC
Абеляр, проведший долгие годы одной ногой в могиле, после несчастья с Шевалье зажил суетной жизнью в непрерывном движении, подобном бурному морю. Каждый день он куда-то уходил. Сколько времени теряла с ним ты, подхваченная этой штормовой волной! Как беспокоил меня этот крен, вдруг развернувший тебя к человеку, который был для тебя почти отцом. По правде говоря, такой долгий путь разделял вас, что он вполне мог бы приходиться тебе и дедом.
Сколько раз мучилась я вопросом, не читаешь ли ты вместе с ним письма Бенжамена, не отвечаете ли вы вдвоем соглядатаям из-за границы. Какая паутина сплетен плелась за моей спиной!
Рука боли терзала рассудок Шевалье наваждением, и он окончательно потерял покой.
«Только не предавай меня. Прошу тебя ради всего святого. Главное — не доноси на меня военным, при моем-то состоянии здоровья».
Навязчивая идея поселилась в его мозгу, и он не мог от нее избавиться, панически боясь, что его заберут за дезертирство, потому что он не служил в армии.
«Пусть никто не называет меня Шевалье при врачах и сиделках. Скажи, что мое имя Адан. С армейского командования станется заточить меня в крепость, даже парализованного. Не предавай меня, умоляю!»
Я тоже, хоть и в силу иных причин, чувствовала себя за решеткой предательства и мучилась от коварных подножек измены.
Мне приснился дельфин; словно живой образ смятения и разлада, он обвивался вокруг центральной оси, которая была корабельным якорем. Вместе возвещали они о всемирном потопе. Но, поборов воду, проступила земля под ликом Дианы.
С тех пор как Шевалье стал угасать в страданиях, Абеляр сделался таким экспансивным! Он по-прежнему ухаживал за ним, не жалея сил, но как мало было в его заботах любви и преданности!
С
Сколько сомнений одолевало меня теперь, когда замысел вступил на самый многообещающий путь. Как всегда, ты проводила ночи за работой, не смыкая глаз, в подвале, — но сколько раз уносилась мыслями в фантазии, погрузившись в созерцание, забывшись, во власти необоримых искушений.
Умалялось твое мастерство, и слабела бдительность. Ты сама обкрадывала свои добродетели, и от этого страдал плод твоего труда. Твоей энергии больше не хватало, чтобы установить связь прежней силы. Как часто я видела тебя с Абеляром! Сколько вечеров проводила ты с ним неразлучно! Как долго я не замечала, до чего сильно его влияние! Как быстро взыграла в тебе гордыня, вытеснив здравомыслие! Самодовольство твое сделало тебя столь надменной, что поистине тяжко тебе было терять величие, садясь на жесткий табурет, что стоял у твоей печи. И все же сила твоя была и оставалась чистейшим пламенем.
Столь свободный разум твой ты пыталась заточить в телесную оболочку, как в стальной сейф. Однажды я застала тебя перед зеркалом — ты созерцала первый в твоей жизни эфемерный силуэт, которому суждено обратиться во прах. Ты изживала в себе скромность, и невдомек тебе было, что, поступая так, ты безвозвратно губишь замысел.
И все же ночами ты была со мной, ты садилась у горнила и трудилась почти с той же решимостью, что и прежде. Словно тело было дано тебе для низменных надобностей, а душа для высоких дел.
И как только ты принималась за работу, тяжелые черные тучи рассеивались и разгорался восторг. Ты воплощала замысел с таким искусством, что тайная его работа осуществлялась сама собой. И я любила тебя так пылко!
Однажды ночью, перед тем как лечь спать, ты сказала мне:
«Мама, пока я смогу дышать, я буду надеяться».
Позже я поднялась и зашла в твою спальню, отчего-то чуть-чуть встревожившись. Тебя там не было. С невыразимой печалью подумала я, что мимолетно, всего на несколько часов, но ты превратилась в рабыню.
CI
С какой беспечностью сказала ты мне, что провела эту ночь с Абеляром. Воли твоей не хватало, чтобы измыслить мотивы для столь долгих бесед. Я представляла себе, как ты читаешь и перечитываешь письма из-за границы. Абеляр изрядно прибавил в теле, но чувства его сильно изменились в худшую сторону — до такой степени, что он даже осмелился сказать мне:
«Хэвлок Эллис хочет только блага вашей дочери. Это современный сексолог, известный во всем мире. Вдобавок он специалист по евгенике. Бенжамен часто с ним видится и восхищается им. Этот профессор советует вашей дочери поехать для продолжения учебы в Англию. Вы не должны этому противиться».
Я не узнавала в этом человеке, поучавшем меня, прежнего, верного и благоразумного Абеляра, которого я знала столько лет. Болезнь Шевалье и собственное исцеление сказались на его рассудке.
«Если вы ничего не имеете против, я могу поехать с вашей дочерью».
То была вспышка пламени, на несколько мгновений ослепившая меня. Абеляр сам обеднил свой дух, поставив себя на одну доску с Бенжаменом. Оба они пали ниже некуда и сравнялись в малодушии и заблуждениях.
«В Англии она попадет наконец в среду, необходимую ей, чтобы завершить свое образование».
Твое образование — и Абеляр прекрасно это знал — ты могла продолжать только в нашем особняке. Знания и мудрость, благоразумие, опыт и постижение вливались в тебя, когда ты занималась своею работой у нас в подвале.
«В Шевалье так мало осталось жизни. Он даже не замечает, что я ухожу гулять. Дай Бог, чтобы он не слишком мучился во время своей медленной агонии и без страданий покинул этот мир».
И с каким же легким сердцем Абеляр, в свою очередь, был готов покинуть своего друга!
В ту ночь, работая в подвале, ты впервые выдержала испытание огнем. Каким красноречивым символом стала твоя обожженная рука — символом жертвенности и возрождения, которых требует замысел.
CII
С каким сокрушением, с какой горечью читала я поток откровений в твоем тайном дневнике:
«Убожество, извращение, мерзость, ненависть — вот ценности, которым я отдаю все мои предпочтения. — Я смеюсь надо всем, как набитая дура. — Я кормлюсь шарлатанством».
Абеляр, Бенжамен и Профессорский Совет Университета преследовали тебя и не давали мне покоя своими нотациями. В одиночку встала я на твою защиту, сказав тебе, что за все придется платить страданием; но они так ловко вворачивали свои комплименты и так грубо льстили тебе, что притупили все твои чувства. Поэтому ты записывала в «Преисподней» все больше и больше нелепиц.
«Я упиваюсь позором. — Я люблю ложь. — Более того, я чту ее как богоравную. — Я буду купаться в свежей крови только что убиенных. — Я из породы тех, что свистят, когда истязают».
С легкой руки Абеляра ты стала носить невозможно вульгарные юбки! Глядя на тебя в этом отвратительно пышном купоне органди, я вспомнила мою сестру Лулу и сказала тебе:
«Лучше бы мне увидеть тебя мертвой, чем духовно опустившейся. У тебя есть предназначение в жизни, ты должна выполнить миссию».
А ты, в чужих перьях, смотрела на меня свысока так властно.
«Я помню это, мама. Как помню и то, что мне решать, каким будет мой путь».
Впервые мы с тобой поссорились. Как ошеломила меня твоя заносчивость! В угаре твоей гордыни мне было так трудно дышать, что я едва не задохнулась. Я заперлась у себя в комнате, оцепенев от изумления. Я была уверена, что тебя еще не поздно спасти, что ты останешься жива и невредима после столь чудовищного опыта. Я подготовила тебя к нему по неразумению. Я лелеяла мысль, что эти позорные перипетии все же заставят тебя задуматься о Грехе.
Я была убеждена, что ты еще можешь вернуться к благости.
CIII
Хирурги ампутировали ногу Шевалье, но не избавили от болей, которые мучительными приступами терзали теперь культю с удвоенной силой. Как он страдал! Абеляр, однако, проводил столько времени с тобой, что вовсе не уделял внимания другу. Я очень жалела его! Забвению, в которое повергло его, как в бездну, равнодушие Абеляра, мое сочувствие положило предел. Я подолгу слушала его жалобы!
«Никогда не давай ампутировать себе ногу! Лучше бы меня зарезали на операционном столе. Мне хуже час от часу, все нутро болит. Нога, которую отняли, мучает меня, боль-то они не удалили».