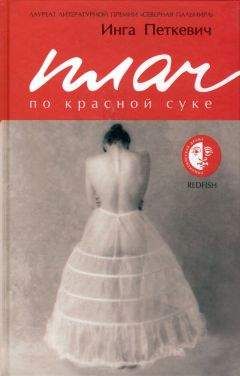— Пчеловод, ц-цвето-цвето-вод, овоще-вод, ди-ди-рижабль Федя!
Этот Федя-Дирижабль улыбнулся нам виноватой обреченной улыбкой и больше в течение вечера ни разу не сошел с места и не сказал ни единого слова.
Застолье никак не оформлялось и стол не накрывался. Все так торопились выпить, что многие даже не раздевались. Впервые в жизни мне была близка и понятна такая поспешность.
Очнулась я в постели под иконостасом в обнимку с рыжей кошкой. Федя-Дирижабль по-прежнему сидел на стуле возле дверей и смотрел прямо перед собой завороженным взглядом. В замешательстве я постояла перед ним, но он не реагировал, и я вышла.
Как потом выяснилось, Федя-Дирижабль остался жить у Брошкиной. Таким образом, эта любовная драма разыгралась у меня на глазах до самого финала и, наверное, поэтому показалась мне особенно нелепой и досадной.
Мне сразу понравился этот тихий и грустный человек с неподвижным, будто завороженным, взором кротких серых глаз. Он был как-то особенно пришиблен и покорен.
В молодости он попал в нехорошую историю, просидел восемь лет, недавно вышел на свободу и работал водопроводчиком в жилконторе. Он был мастер на все руки, не пил, не курил, обожал растения, и те отвечали ему взаимностью. В ящиках на балконе у него вызревали даже помидоры и красный перец. Там же помещались ульи с пчелами, которые жалили соседей, и те подали на него в суд.
Федя, испугавшись суда, сбежал из дома месяц тому назад. Некоторое время он жил где придется, а потом прибился к Брошкиной.
Этот блаженный полюбил Брошкину и сделал ей официальное предложение… Брошкина, по моим наблюдениям, тоже его полюбила, но любовь всегда действовала на нее отрицательно.
От волнения вся муть и дрянь поднялась со дна ее души. Она стала нервничать, кобениться, устраивать всякие сцены и пить.
Блаженный Федя терпел и продолжал любить Брошкину, чем окончательно довел ее до исступления. Она издевалась над ним, бросалась в него всякими предметами и даже сбегала из дома. Он терпел.
Мне Брошкина объясняла свое поведение тем, что не верит ему, не верит, что он может быть хорошим. Я понимала ее. Груз отрицательного опыта у нее был так велик, что она не могла совладать с ним, как не могла поверить в свое счастье — оно ей было не по силам.
И все-таки я делала ей надлежащие внушения: увещевала и вправляла мозги, наверное, целый месяц. Я была убеждена, что этот Дирижабль для Брошкиной — просто находка, что она должна держаться за него руками и ногами. Скромный, толковый, работящий, он к тому же имел квартиру и домик под Лугой. Я не жалела красноречия, чтобы убедить нашу поэтессу связать свою судьбу с этим достойным человеком. Брошкина внимательно слушала мои горячие доводы и заметно сдавалась.
Мы не сошлись в одном, казалось бы ничтожном, пунктике. Я требовала, чтобы Брошкина немедленно переехала жить в квартиру Дирижабля (мне хотелось поскорее вырвать ее из злачного дома). Брошкина соглашалась со мной, но ей хотелось отметить эту важную перемену своей жизни надлежащим образом. Я же, прекрасно зная, чем чреваты любые празднования в их трущобной колонии, убеждала Брошкину повременить с оглашением брака, а сначала обжиться на новом месте, оглядеться… словом, не пороть раньше времени горячку. Но здесь мы никак не могли прийти к соглашению: Брошкина не мыслила себе брака без свадебного застолья с традиционной фатой, поцелуями и подарками. В этом плане она проявляла такую горячую настойчивость, что невольно возникало подозрение, что все прелести брака для нее заключаются только в свадебном обряде.
— Но почему, скажи, нельзя отложить эту церемонию на потом? Подготовиться к ней как следует, подкопить деньжат… К чему такая спешка, ты ведь не девочка… — увещевала я Брошкину.
— Нет, — упрямо возражала она. — Свадьбу положено праздновать у невесты. Так принято. Кроме того, я должна проститься с родным домом и друзьями.
Чуяло мое сердце, что это добром не кончится, но сдалась и пустила все на самотек. Мои личные обстоятельства в то время не позволяли особо вникать в чужие, заведомо гиблые дела. Сын болел скарлатиной, мать лежала в больнице с подозрением на инфаркт. После работы я металась между двумя больницами на Васильевском острове, носила передачи и ухаживала за родными, потому что санитарок, уборщиц да и лекарств в тех лечебницах не было.
А в доме на Обводном канале шли бурные приготовления к свадьбе. Три фурии, отбросив в сторону мелочные счеты друг с другом, сплотились в боевой актив и, не щадя сил, с великим энтузиазмом бегали по магазинам, собирали деньги на подарки и шили подвенечное платье.
Свадьба была назначена на ноябрьские праздники, которые на этот раз выдались особенно длинными — целых пять дней. К тому же Брошкиной было положено на свадьбу два дня — итого образовалась целая свободная неделя, которая, разумеется, требовала фундаментальной подготовки. Водку брали ведрами и тачками грузили закусь в холодильники. На меня сыпались упреки, что я не принимаю участия в общем ажиотаже. Но мне было не до них — я таскалась по больницам. И на меня стали коситься подозрительно. О чем-то шептались за спиной, умолкая, когда я приближалась к заговорщикам, и явно подозревали в каких-то смертных грехах, интригах и злодействах. Я не рвалась на эту свадьбу, но приглашение последовало…
Накануне праздника моя мать выписалась из больницы. Ее лечили от инфаркта, но потом оказалось, что у нее спондилез. Хорошо, что не наоборот. Одного моего знакомого лечили массажем от спондилеза, а у него был обширный инфаркт.
Словом, мать, вырвавшись из этого инфекционного эпицентра, сразу же бросилась забирать домой любимого внука. Меня малость отпустило, я перевела дыхание и тут же почувствовала отчаянную усталость, которая стремительно перерастала в депрессию. Каждая моя клетка дрожала от напряжения, голова тряслась, бессильная ярость и отчаяние душили меня, я вскакивала посреди ночи и металась по пустой квартире, с вожделением поглядывая на открытую форточку, благо окно находилось на седьмом этаже.
Я не собиралась идти на свадьбу, но в те гнилые и тусклые дни всенародных торжеств злачные трущобы на Обводном канале казались самым естественным прибежищем для моего свихнувшегося организма.
Я только что рассталась с очередным любовником и завела следующего. Собственно говоря, ни тот ни другой фактически моими любовниками не были. Оба заглядывали ко мне по случаю: заваливались пару раз в месяц, издевались надо мной, кобенились и хамили. Порой оставались ночевать, после чего требовали денег на опохмелку. Наладить какие-либо человеческие контакты с ними было практически невозможно, их изношенная, разболтанная психика уже не подчинялась никаким заповедям. Как одичалое животное, она то брыкалась и шарахалась непредсказуемо, то вдруг несла хозяина вскачь, не разбирая дороги, по рытвинам и ухабам. Может быть, оба они были когда-то людьми, наделенными душой, сердцем и разумом, имели свою индивидуальную природу, но в бешеной скачке и свистопляске наших пьяных будней все эти природные данные растерялись и перемешались в похмельный сивушный коктейль. Оба были одинаковы на вкус.
Первый — черненький, второй — беленький. Оба были смазливы и жили в основном за счет баб, поэтому были привередливы, капризны и вздорны, как настоящие альфонсы. Им надо было угождать, потакать их вздорной природе, домогаться их любви, но ни за что не впускать их в свою душу, не брать в голову и не тратить на них свои нервы. Я имела глупость совершить почти все эти ошибки и тут же проиграла.
Первого — черненького, нервного, бестолкового и затравленного — я жалела, старалась помочь ему материально.
Второго — беленького — я воспринимала исключительно только в постели, и это его почему-то весьма обижало.
Оба были технари, то есть имели высшее техническое образование: первый был химик, второй, кажется, строитель. Балованные дети нищей интеллигенции, они получили неплохое воспитание, с детства мечтали о красивой, творческой жизни и, получив фиктивные дипломы, может быть, пытались претворить свои мечты в жизнь… но куда там! Их быстро поставили на место, то есть на ставку сто двадцать рублей в месяц (тогда цена пары женских сапог). Под горячую руку они женились, разумеется по любви, но содержать семью на такую зарплату было практически невозможно. Они быстро развелись и оказались на панели, где каждая баба их с удовольствием подбирала, кормила, поила и обихаживала. Обыкновенная история.
Я всегда отдавала себе отчет, что животная природа человека жестока, любовные игры азартны и секс беспощаден. Но до чего же скотские и пошлые здесь были правила игры! Я была гордячкой — игра в поддавки меня не устраивала. Изображать страсть или нежность, когда нет ни того ни другого, мне казалось унизительным. Настоящих страстей мы знать не можем — на лживой, искусственной почве страсти не произрастают. Но надо же как-то жить и оставаться людьми. Мне казалось, что наши одинокие, измотанные люди еще могут честно договориться, могут искренне пожалеть ближнего, чтобы разделить на какое-то время его одиночество. На более сложные и глубокие отношения я никогда не претендовала. Но и такой жалкой подачки, как понимание, пощада и поддержка, я не добилась в жизни ни разу.