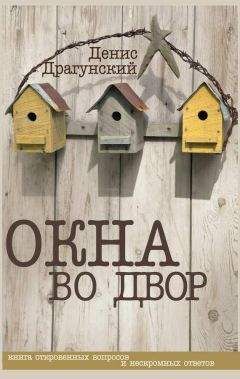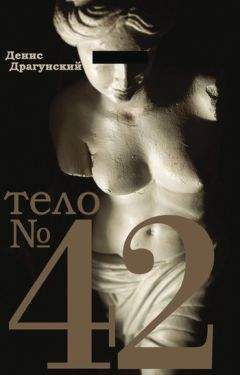Вообще-то мы хорошие ребята. Общительные, веселые, добрые. Любознательные. Даже, можно сказать, умные.
Но — иногда лжем.
квартира машина работа семья..
Пусть он увидит, пусть. Не надо его беречь. Я всегда его берегла. И что я получила? Хватит, больше не буду. Но пугать не буду тоже. Я его предупрежу. Чтобы он не вляпался в неприятности.
Напишу на бумажке и повешу ее на дверь. Вот так:
Стой! В квартиру входи только с милицией. Я там вишу. В ванной. Там довольно крепкий крюк. Еще я выпила много таблеток и вскрыла вены, на всякий случай. Прости меня.
Нет, это смешно. Надо просто:
Я повесилась в ванной. Никого не винить. Я сама, в уме и памяти. На похороны зови всех, кроме КР. Не обмани! Прощай.
Нет, это лишнее. Соседи увидят, начнут ломиться. Получится ерунда. Ничего, пусть он испугается, не маленький. Записку можно в прихожей. Вот такую:
Прощай! Я повесилась. Никого не винить. Не говори КР. Целую.
Так лучше всего.
Она пошла в душ и долго там полоскалась, раздумывая, одеваться ей или повеситься так, в голом виде. Решила сначала вытереться.
Зазвонил телефон. Она не стала выбегать из ванной. Телефон позвонил раз десять и замолчал. Ну и наплевать, подумала она.
Пусть она достает меня из смятой машины, пусть. Хватит ее жалеть! Пусть она увидит меня, вмятого окровавленной головой в разбитое лобовое стекло. Ремни, воздушная подушка — если хорошо шарахнуться, то не поможет. Надо боком. В лоб и боком. Только чтобы она не догадалась, что я нарочно. Записка? Какая чушь! Может, еще КР привет передать?
Но попрощаться надо. Просто сказать: прощай. Пусть думает, что хочет.
Он набрал номер. Никто не подошел. Ну и наплевать, подумал он.
Проехал по глухому загородному шоссе еще километров пять. Как нарочно, ни одного грузовика навстречу.
Он долго решал, посылать смс или нет. Решил, что все-таки да, надо.
Свистнула смска в ее телефоне.
— Достали! — закричала она, красиво одетая, надушенная и накрашенная.
Взяла телефон. Там было написано:
Я разбился на машине. Прощай. Позвони КР. Целую.
Она швырнула в сторону блестящую капроновую веревку.
Он опять ее обогнал.
Хотела позвонить в милицию, сказать его фамилию и номер машины, но не было сил. Сидела на диване и смотрела какую-то чушь по третьему каналу.
В половине двенадцатого она услышала ключ в двери. Бросилась в прихожую, схватила и разорвала записку. Кинула ее в унитаз. Спустила воду.
— Когда ни приду, — громко сказал он, снимая ботинки, — она всегда в сортире. От кого ты там прячешься?
— Есть будешь? — спросила она. — Чего молчишь? Тебя кормить?
— Руки вымой, — сказал он.
— Не смешно! — сказала она.
Мой товарищ NN рассказывал:
«Была у нас на курсе девочка по прозванию Бледная Клара. Из Вильнюса. Удивительно некрасивая, с бескровным лицом, белесыми волосами, бесцветными глазами и острыми клычками. Хотелось потрогать их пальцами, ощутить легкий укол.
Однажды я позвонил Бледной Кларе (была куча общих друзей-подруг, и на квартире одной такой подруги она проживала в тот момент) — позвонил и сказал: „Кларочка, не откажи в любезности, мне сегодня, представь себе, негде ночевать“. Что было отчасти правдой. Она сказала: „Пожалуйста, но ко мне должна зайти приятельница с кавалером, но это ничего“.
Ничего так ничего, я прихожу, мы пьем чай, и получается интересная штука: у меня были чудесные женщины, умницы и красавицы, и со всеми я расходился. Но вот сидит передо мной Бледная Клара, похожая на утопшую ундину, тихая, неважно одетая, — и душа моя переполняется желанием и нежностью. „Клара, — говорю я ей. — Ты мне очень нравишься. Ну иди сюда, ну скорее…“ „Ты уверен?“ — спросила она. Я схватил ее за руки и зашептал слова любви. Вот оно, счастье мое, с вялыми локонами вдоль бледных щек. С острыми зубками и толстыми ножками.
Но тут раздался звонок. Гости пришли. Какой-то красавец, а с ним — звезда и чудо нашего факультета Галя Z. Прекрасная, как я не знаю кто. Я неожиданно для себя стал задирать ее кавалера. Он сносил мои грубые шутки терпеливо. А Галя хохотала и сверкала зелеными глазами. Но вот гости ушли. Я пересел от стола на диван, потом улегся, закинув руки за голову. В окне было видно, как усы троллейбуса искрят по проводам — был сырой январь, буквально первые числа. И я почувствовал, как все мои нежные мысли про Бледную Клару исчезают. Мне стало стыдно. Особенно когда она вошла, села рядом, а потом прилегла и стала ко мне принеживаться.
— Кларочка, — сказал я. — Прости меня. Я говорил разные слова. Не обращай внимания.
— Ладно, — сказала она. — Полежим тихонько. Слушай, что я могу для тебя сделать? Ты мне тоже нравишься. Ну, не тоже, а просто. Давно нравился. Ну, говори, говори.
— Обещаешь?
— Обещаю.
— Тогда вот, — сказал я. — Тогда завтра позвони Гале Z и скажи, что я в нее влюбился. Что я хочу на ней жениться.
— Я обещала, — сказала она. — И я сделаю. Ну, встали… Или поспишь?
— Встали, — сказал я.
Через два дня Бледная Клара позвонила и спросила, под каким соусом устроить мне встречу с Галей. Соус нашелся — какие-то редкие книги. Галя пришла за этими книгами ко мне домой. И ушла через тринадцать месяцев. Но это уже другая история.
А недавно я встретил своих вильнюсских друзей и спросил про Бледную Клару. Оказалось, она потом вернулась в Вильнюс, а там познакомилась с каким-то пожилым и хворым шведом. Обвенчалась с ним, поехала в Швецию, скоро овдовела, немножко преподавала, потом вышла на пенсию и теперь живет тихой шведской старушкой то ли в Упсале, то ли в Гётеборге. Странная штука жизнь», — вздохнул мой приятель NN.
— Ничего странного, — сказал я. — На себя посмотри: тихий московский старичок.
Он засмеялся, но несколько принужденно.
Ребята сказали, что умер Паша Каграманов, вслух произнес Сидоров. Он был один дома, он поздно встал и ходил по квартире в халате, потому что вчера была сдача номера, а сегодня — день отдыха.
Хорошая фраза, подумал он. Нет, плохая. Как это — ребята сказали? Хором подошли и сказали? Или по очереди подходили и говорили? Не годится.
Однако надо было найти нужную форму для этого сообщения. Строго и без надрыва.
Потому что Паша Каграманов — это была выдумка. Старый школьный приятель, который вдруг возник в одной компании, милый парень, научный сотрудник в каком-то техническом НИИ, холостяк, живший на окраине Москвы, душа-человек, собирал старых друзей чуть ли не каждую неделю. Веселую чисто мужскую компанию.
Вымышленный Паша Каграманов появился в жизни Сидорова именно тогда, когда в редакции появилась вполне реальная N, внештатный сотрудник отдела культуры: быстрый и безоглядный роман. Сидоров просто голову потерял, но все же ему хватило ума сочинить себе вот такое прикрытие.
Несколько лет Паша Каграманов рос по службе, защищал диссертацию, устраивал новоселье и часто звал к себе на дачу с ночевкой.
Время сеять, время жать, время собирать в житницу — вот и для юной N настало время молоть муку и печь хлебы, кормить ребенка маленькой смуглой грудью и развязывать ремешки сандалий на пыльных ногах мужа, но на эту последнюю роль Сидоров никак не годился. Они расстались трезво, без попреков и обид, что бывает редко.
Вчера и расстались. Осталось распорядиться судьбой Паши Каграманова.
У Сидорова от этих мыслей разболелась голова. Он вышел пройтись. Ноги сами привели его на Ваганьково, поскольку жил он на Пресне.
У ворот стояла небольшая толпа: старушки с цветами и фруктами на шляпах, пожилые дамы в ортопедической обуви, девицы в толстых очках, молодые люди с редкими бородками и дети в белых рубашечках.
Подъехал катафальный автобус; гроб вытащили и поставили на тележку. Все собрались вокруг. Тележку повезли вглубь кладбищенских аллей. Толпа тронулась. Там еще был громадного роста азиат в просторной рубахе и барашковой шапке — надо полагать, духовное лицо. Его все время пропускали вперед, а он замедлял шаг — не хотел идти во главе процессии.
Сидоров подошел к нему и, поборов неловкость, спросил, кого хоронят, не Каграманова ли?
Тот покачал головой и назвал короткую незнакомую фамилию.
— А Каграманова завтра хоронят, — вдруг сказал подвернувшийся сбоку кладбищенский мужичок. — На седьмом участке. Уже могилку отрыли. Похороны будут — вы что! Два оркестра, сто венков! Пал Львовича все уважали!
Вечером жена спросила Сидорова, отчего это он такой мрачный.