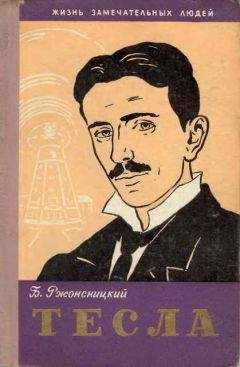24.
Все же не маленький город этот Житомир. Поэтому то, что завершилось в одном его конце, продолжается в другом.
Погром уже не разгорался, а тлел. Правда, без жертв все-таки не обошлось.
Если Срулика застрелили целенаправленно, то сейчас убивали просто так. Только потому, что мишень и погромщики пересеклись.
Так под руку попались отец и сын Кришмуль. Почему-то в этот момент они не сидели в подвале, а выходили из дверей завода.
Громилы как раз заинтересовались вывеской. Прочитали, что это предприятие Бренера и Рабиновича, и поняли, что им сюда.
Слишком далеко вторгаться не стали. Вполне удовлетворились тем, что Кришмулей тоже двое.
Потом началась погоня. Почти полчаса перед носом преследователей болтались два темных пятна.
В конце концов погромщики остановились. Поняли, что бежать дальше не имеет смысла.
Куда-то подевались отец с сыном. Только что были – и словно растворились в воздухе.
Погромщики покрутились и обнаружили их в колодце. Друг за дружкой они висели на веревке для ведра.
Громилы орут: “Поднимайтесь сюда!” Для убедительности чиркнули по веревке ножом.
Кришмули дрожат, но ползут наверх. Все-таки смерть на людях допускает возможность сопротивления.
Полминуты достаточно, чтобы выкрикнуть: “Убивайте, гады!” После этого не обидно умереть.
Страшен конец этих двоих, но еще ужасней гибель домовладельца Елышевского.
Вообразите: стоит человек около своего дома, а полицейские ведут погромщиков.
Это излюбленная точка зрения Елышевского. Уже который год он демонстрирует, кто тут хозяин.
Так вот он стоит, а они идут. Каждый про себя вспоминает, что он не успел сделать.
Вот один и решил поставить точку. Вырвался из цепи и повалил домовладельца на землю.
После этого почувствовал: всё. Не совсем зря прожит день и вся его жизнь.
Теперь хоть на каторгу… Опустил голову, заложил руки за спину и занял место в колонне.
25.
Долго блуждала Мария Семеновна и нашла Колю в морге Еврейской больницы. Вместе с десятком убитых он лежал на полу.
Сперва она ничего не различала из-за огромного количества трупов, а потом увидела его.
В первую очередь бросалась в глаза поза. Так, закинув руку за голову, ее сын любил отдыхать.
Коли нет, а его жест не закончен. Кажется, прежде чем уйти из жизни, он повернулся на другой бок.
Как его угораздило сюда попасть? Что соединяет с Лейбом Вайнштейном и Гдалья Шмуэльзоном?
Так размышляла Мария Семеновна. Впрочем, сейчас самое страшное не думать, а дотронуться.
Ощущение такое, что эти раны болят. Что здесь собрались не мертвые, а смертельно больные.
Потом она переборола себя… Намоченный платок смешивался с кровью и становился все более красным.
26.
Уж не согревала ли ее мысль, что это не впервые? Что другая Мария так же склонялась над мертвым телом.
Мария Семеновна чувствовала себя Марией. Той, кому надлежит проводить сына в последний путь.
Ее предшественницу окружали пальмы и смоковницы. Они были буквально вырезаны в прозрачном небе.
Тут же совсем никакой перспективы. Четыре стены и восемнадцать мертвых тел.
Концентрация горя такая, что невозможно не только смотреть, но и дышать.
Вздохнул и сразу стараешься выдохнуть. Чтобы не задерживать этот ужас в себе.
Зато плачется удивительно легко. Даже непонятно, откуда у одного человека столько слез.
27.
Тихо движется тряпка, почти не касаясь никого и ничего, падает лунный свет…
Не исключено, что свет – живой. Что это не столько свет, сколько послание, которое ей предстоит прочесть.
Так ночь подходит к концу. Еще немного темных красок, и будут исключительно яркие.
Пройдет какое-то время, и уже никто не скажет уверенно, было ли это на самом деле.
Так что без свидетельства никак нельзя. Пусть это будет не плащаница, но хотя бы платок, впитавший его муку.
Затем необходимо фото: длинный ряд растерзанных и замученных, чьи души витают где-то здесь…
Вас смущает фотоаппарат в морге? Считаете, что эта машина уж очень привязана к реальности?
Фотографу тоже должно быть не по себе: кажется, не только он плачет, но и его тренога.
Вот он наклонился к окошечку и сперва ничего не понял. Будто стекло его оберегает и не дает увидеть все как есть.
28.
Все же слезы не должны помешать. Ведь достаточно нажать кнопку, и получишь точную картину произошедшего.
Так, уважаемые потомки, это было: первый лежал Коля, а потом Лейба, Гдалья, Цви и Элияху.
Есть здесь и Срулик Пак. Хотя сделавший снимок не еврей, но его тоже называют Паком.
Пак – это Павел Артемьевич Корнелевский. Не только аббревиатура, но и прозвище.
Когда Коля писал сестре и ее мужу, то именовал их Паками. Так это и вошло в семейный обиход.
Получилась совсем не шутка. Один Пак урожденный, а другой ставший им в процессе жизни.
Впрочем, с этого дня у Павла Артемьевича появилось куда более важное имя.
Если Мария Семеновна чувствовала себя Марией, то Павел Артемьевич – Павлом.
Кстати, Корнелевский тоже отличался крупной лысиной и небольшим ростом.
Еще в них обоих было много веры. Ровно столько, чтобы пойти до самого конца.
Жаль, что во времена Голгофы не изобрели фотоаппарат. Апостол бы им непременно воспользовался.
Обливался бы слезами, но треногу тащил. Чувствовал, что это и есть его крест.
Как можно без снимка? Раз это важнейшее событие истории, то тут нужен документ.
Конечно, следовало крупно взять лицо. Еще искаженное мукой, но ощущающее близкий покой.
Такое лицо у Блинова на карточке. Все в кровоподтеках, но уже переставшее чувствовать боль.
И рука, как вы помните, закинута за голову. Словно он решил немного вздремнуть.
Павел Артемьевич все сделал как полагается. Установил треногу в нужное время и в нужном месте.
Правда, жену и тещу решил поберечь. Мог, конечно, щелкнуть, но оставил за кадром.
Очень уж нелегко им дался этот день… Волосы растрепаны, глаза смотрят туда, где крупно написано: “почему?” и “за что?”.
29.
Паки все делали сообща. Не только Павел Артемьевич, но и Муся думала о потомках.
Пропитанный кровью платок завернула в бумагу. Потом решила, что этого недостаточно, и сделала надпись.
Удивительная вышла фраза. Прямо на ее середине неожиданно наплывает: “Да-да”.
Так слеза пробегает по щеке. Вроде ей неоткуда взяться, а она уже около губ.
“Мамуся сожгла платок, который смочила в кровяной луже, да-да, в луже крови нашла мамуся зверски убитого Колюсю Блинова”.
Все же на слезу не похоже. Больно настоятельно-утвердительная интонация.
Уж не то ли это “да-да”, о котором сказано в эпиграфе? Вместе с “нет-нет” эти слова противостоят злу.
Может, так она себя уговаривала? Мозг не хотел верить, а она настаивала: смотри, не отводи глаза.
Есть кое-что еще более странное. Сказано, что платка уже нет, а он перед нами.
Видно, Муся сама не знала, что лучше: чтобы его не было или чтобы он был.
Ясно, что уничтожить не получилось. Запала хватило только на то, чтобы это написать.
Придется и нам жить с этим свидетельством.
Пусть время выбелило и без того белую ткань, а все равно как-то не по себе.
Прикасаешься с ужасом. Словно взвешиваешь на руке тот день и понимаешь, что он еще длится.
30.
В кармане Колиного пиджака Мария Семеновна обнаружила письмо. Больше всего ее поразило то, что сын обращался к ней.
Чего-то такого она ожидала, но тут еще почерк. Единственные в своем роде “н” и “м”.
Главное, конечно, то, что он пишет. Эти слова сейчас ей нужны больше всего.
“Мама родная, дорогая! Я знаю, что тебе в эти дни особенно должно быть тяжело. Тяжело, что мы не вместе, тяжело, что с этим приходится мириться… Прости, дорогая, что я не могу помочь тебе; впрочем, нет, я не прошу у Тебя прощения, я прошу только, чтобы Ты постаралась понять меня, и, быть может, тебе легче станет, я хочу, чтобы Ты поняла меня, потому что слишком люблю Тебя и тяжело говорить с тобой на разных языках, тем более тяжело, что мы можем говорить на одном…”
Что говорить, странно. Вот тут Блинов лежит мертвый, а его голос звучит твердо и уверенно.
Мария Семеновна знала эту его склонность к монологам. Бывало, Коля встанет в позу и начнет вещать.
Если никто не спорит, все равно продолжает. Уже не столько для собеседников, сколько для себя.
Она никогда не сомневалась в том, что он прав. Если возражала, то лишь для того, чтобы не сразу соглашаться.
Еще не хотелось обижать домашних. Иначе что же это выходит: самый младший в семье, а последнее слово всегда за ним.
Как бы она радовалась, если бы он это не писал, а произносил. Поглядывала бы на других детей: вот какой у них брат.
Какой такой? Умный, красивый, по любому поводу имеющий свое мнение.
Особенно хорош был сын с бурной шевелюрой и в артистической куртке. Многие принимали его за писателя или художника.