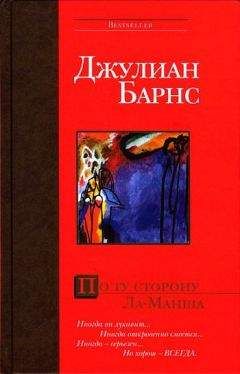— «Сплошное удовольствие и никакой ответственности».
— Ох, избавь.
— Я поставил это в кавычки.
— Ощущение продолжения рода, которое мне не дано было испытать в полной мере со своими детьми.
— Это потому, что твои внуки еще не успели тебя разочаровать.
— Ох, типун тебе на язык.
— Молчу, я ничего не говорил.
— Так на чем мы порешили: есть надежда для планеты? Учитывая глобальное потепление, нечеткость понятия «эгоизм» и незрелость политиков, которые доросли разве что до полицейских?
— Человечество и прежде выбиралось из разных передряг.
— А молодое поколение — даже большие идеалисты, чем мы на том этапе. Или, по крайней мере, на нынешнем.
— И Галилей по-прежнему одерживает верх над Папой. Это в некотором роде метафора.
— А у меня по-прежнему нет рака задницы, и это в некотором роде факт.
— Дик, позволь, я наконец-то склоню чашу весов. Сейчас наша планета — вполне приемлемая среда обитания.
— Не выживем, так хоть согреемся.
— И бог с ними, с Нидерландами. Надо только Рембрандта всего перевезти куда повыше.
— И пояса затянуть, поскольку банкиры увели наши денежки.
— И всем стать вегетарианцами, поскольку производство мяса способствует глобальному потеплению.
— И на путешествиях поставить крест, за исключением конных и пеших.
— «На своих двоих» — забытое выражение.
— Знаете, мне всегда хотелось перенестись в ту эпоху, когда даже состоятельные люди ездили за границу лишь раз в жизни. Что уж говорить о бедном паломнике с посохом и раковиной, для которого одно-единственное паломничество длилось целую жизнь.
— Не забывай, что за этим столом сидят приверженцы Галилея.
— Тогда можно отправиться паломником во Флоренцию или куда там еще, чтобы поклониться его телескопу. Если только Папа его не сжег.
— И мы снова начнем разводить огороды и выращивать еду без химии.
— И заниматься ремонтом, как раньше.
— И будем сами придумывать себе развлечения, беседовать за семейным столом и почтительно слушать бабушку, которая примостилась в углу, вяжет носочки для малыша, еще не появившегося на свет, и рассказывает, как жилось в прежние времена.
— Это явно перебор.
— Да нет, по мне — неплохо, при условии, что можно будет изредка посмотреть телик и пожить без бабушек и дедушек.
— Может, вместо денег стоит ввести натуральный обмен?
— То-то банкиры полезут на стенку.
— Не надейся. Эти всегда выплывут. Хоть тресни, фьючерсная биржа встанет на ноги.
— Она уже стоит на ногах, дружище.
— Помнишь, как раньше говорили: «От судьбы не уйдешь»?
— Ну?
— Вернее было бы сказать: «От богатых не уйдешь», «От банкиров не уйдешь».
— До меня только сейчас дошло, почему семья без бабушек и дедушек называется ядерной. Она легко расщепляется, взрывается и грозит облучением.
— Ты меня опередил — я именно это и хотел сказать.
— Кто не успел, тот опоздал.
— Ммм, вкусно пахнут яблоневые полешки…
— Вопрос: без какого из пяти чувств легче всего обойтись?
— Уже поздновато играть в «угадайку».
— Ответим в другой раз.
— Если уж на то пошло…
— Закуски — объедение.
— Выше всяческих похвал.
— И никто не выразился на букву «п».
— И не загрузил нас сексуальной «домашкой».
— Я хочу сказать тост.
— За этим столом тостов не произносят. У нас не принято.
— Не волнуйтесь, тост не о присутствующих. Я просто скажу: за нашу планету в две тысячи шестидесятом году. Пусть на ней будет столько же удовольствий, сколько есть у нас.
— За нашу планету в две тысячи шестидесятом.
— За нашу планету.
— За удовольствия.
— Как по-вашему, в две тысячи шестидесятом люди все так же будут врать, когда речь зайдет о сексе?
— Вероятно, как минимум один из пяти.
— Кстати, это был А. Дж. П. Тейлор.
— Где?
— Это он говорил, что исповедует сильные принципы, но слабо им следует.
— Тогда и за него не грех выпить — без тоста.
Обычная толчея в прихожей, пальто, объятия, поцелуи; мы всей толпой вывалились из дома и направились кто на стоянку такси, кто на метро.
— Чудесно пахло дымком, — сказала Сью.
— И нас не пичкали тем, что вырвано из глотки мертвой коровы, — отметил Тони.
— Не верится, что к две тысячи шестидесятому мы все окочуримся, — произнес Дик.
— Ой, разве можно так говорить? — всполошилась Кэрол.
— Кто-то же должен озвучить то, о чем другие молчат, — заметил Дэвид.
— До скорого, ребята, — сказал Ларри. — Мне в ту сторону.
— До скорого, — ответили мы почти дружно.
В аэропорту Глазго «твин-оттер» заполнился лишь наполовину: немногочисленные островитяне возвращались домой из метрополии, а самые нетерпеливые туристы с рюкзаками и походными ботинками за спиной спешили открыть сезон во время предстоящих выходных. Около часа они летели над зыбучими мозговыми извилинами облаков. Потом стали снижаться, и под крылом возникли зазубрины береговой линии.
Это были его любимые мгновения. Вытянутый мыс, протяженное атлантическое побережье Трай-Эйс, невысокая белая постройка, над которой они по традиции прошли на бреющем полете, неспешный разворот над горбатым островком Оронсей — и, наконец, гладкая, сияющая бухта Трай-Мор. Летом на борту всякий раз оказывается какой-нибудь столичный горлопан, который — скорее всего, из желания пустить пыль в глаза своей девушке — начинает орать, перекрывая шум пропеллеров: «Единственная в мире посадочная полоса на платном пляже!» Впрочем, с годами он даже на это стал смотреть сквозь пальцы. Пассажирский фольклор.
Они жестко приземлились на подернутый рябью берег и помчались по мелким лужам; между подкосами крыльев вздымались фонтаны брызг. Самолет подрулил боком к маленькому терминалу, и через минуту они уже спускались прямо на пляж по дребезжащему металлическому трапу. Рядом стоял наготове трактор с прицепом, чтобы доставить их чемоданы на расстояние десяти метров и свалить на мокрую бетонную плиту, служившую местом выдачи багажа. «Они», «их»: он напомнил себе, что пора привыкать к единственному числу. Такова теперь была грамматика его жизни.
Калум, поджидавший у трапа, смотрел ему через плечо, вглядываясь в стайку пассажиров. Все та же худощавая фигура, седая голова, зеленая штормовка. Калум был верен себе: ни о чем не спрашивал, просто ждал. Они поддерживали эти задушевно-чинные отношения добрых два десятка лет. Теперь постоянство и упорядоченность были нарушены, а вместе с ними — все привходящее.
Пока фургон тащился по однополосной дороге, вежливо пропуская встречные автомобили, самое время было поведать Калуму историю, которая уже навязла в зубах. Внезапная утомляемость, головокружение, анализы крови, томография, больница, опять больница, хоспис. Стремительная, неуклонная, безжалостная поступь событий. Рассказывал он сухо, ровным тоном, как будто это произошло с кем-то из посторонних. Иначе у него до сих пор не получалось.
У темного каменного домишки Калум рванул ручной тормоз.
— Упокой Господи ее душу, — тихо сказал он и подхватил дорожную сумку.
* * *
Впервые они приехали на этот остров еще до свадьбы. У нее на пальце было обручальное кольцо, в угоду… чему? — воображаемой островной морали? От этого они ощущали и свое превосходство, и ханжество.
В маленькой семейной гостинице Калума и Флоры им отвели комнатку с оштукатуренными стенами, дождевыми потеками на единственном окне и видом на торфяники, переходящие в крутой склон холма Бейн-Вортайн. В первую же ночь они обнаружили, что кровать у них в номере отзывается нещадным скрипом на любые телодвижения, выходящие за рамки того минимума, который требуется для благопристойного зачатия. Этот комичный надзор связал их по рукам и ногам. «Островная любовь», — повторяли они, приглушенно смеясь в плечо друг другу.
Перед поездкой он купил новый бинокль. В глубине острова было раздолье жаворонкам, горным чечеткам, каменкам, трясогузкам.
Над пляжем кружили чибисы и щеврицы. Но больше всего он интересовался их морскими собратьями — бакланами, олушами, буревестниками. Чтобы не пропустить их стремительное пикирование к водной глади и парящий, свободный полет, он часами просиживал на скалах, не замечая, что на нем отсырели штаны, и крутил колесико фокусировки. Особое отношение было у него к буревестникам. Те проживали свою жизнь в море и прилетали на берег только в пору гнездования. Откладывали одно-единственное яйцо, выкармливали птенца и вновь устремлялись в море, планировали над гребнями волн и, никому не подвластные, поднимались на воздушных потоках.
А она пернатым предпочитала цветы. Армерии, погремки, мышиный горошек, ирисы… Помнилось ему, были еще какие-то — черноголовки. На этом его знания — и память — начинали буксовать. Она никогда и нигде не срывала цветов. Говорила: сорвать цветок — значит обречь его на смерть. Даже вазы терпеть не могла. Больничный металлический столик в ногах ее кровати пустовал; другие пациенты считали, что она обделена заботой близких, и пытались передарить ей букеты, которые им некуда было ставить. Когда ее перевели в отдельную палату, этот вопрос решился сам собой.