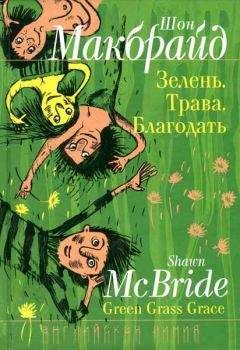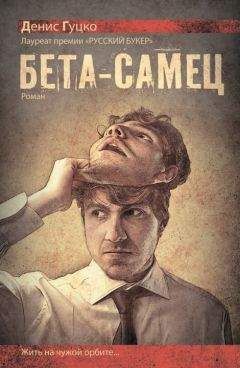Наде ответили – сдержанными кивками. Все, кроме женщины. Та посмотрела знакомым отстраненным взглядом, и только. Без неприязни. Без симпатии.
– Отгонишь, но сначала на мойку. Да пусть мошкару с морды хорошенько смоют, – слышалось из машины. – Заправишь полбака, как было. Спидометр я отмотал уже, батя не должен хватиться.
– Где встретимся?
– Дома у себя останешься. Так Антон сказал.
Из салона “Форда”, чуть не сбив Надю с ног, выскочил юноша. Все тот же, похожий на захлопывающиеся створки, предназначенный чужакам взгляд. Надя узнала его сразу: Алексей, сын Кости Крицына. На фотографиях, висевших в комнате с овальным столом, он выглядел совсем иначе. Подумалось: прошло-то всего ничего с той затяжной воспаленной ночи, а как давно это было – да и было ли? Тогда все только казалось – настоящее настало только сейчас.
Алексей отошел на несколько шагов, позвал:
– Антон!
На него тут же прикрикнули:
– Чего орешь как оглашенный! Не в поле!
– Чего орешь? – сбежал с крыльца крупный, массивным треугольником расходящийся от бедер к плечам, Антон. Сказал Алексею: – Сейчас. – И подошел к Наде, которая уже двинулась было к выходу следом за отцом. Улыбнулся неожиданно весело: – А вы сестра Ефима?
– Да. Надя.
– Очень приятно. Я Антон.
– В гости к папе приехала, – сказала Надя и поспешила оправдаться. – У него мобильного больше нету, поэтому вот так, нагрянула без звонка.
– Извините, мы тут с дороги. Усталые. Сейчас все оклемаются и будем завтракать.
А потом можно и беседы беседовать. Вы пока во дворе побудете? Или тут прохладно?
– Да я уже уезжать собралась, – сказала Надя.
Отец парой мелких шажков подошел ближе:
– Да, уходит уже. Завтра на занятия, – смутился, вспомнив: – Или выходные же… какие занятия?
Антон удивленно поднял брови:
– Как – уезжать собралась? Степан Ильич, почему? Ефим ведь только завтра будет.
Что, и не повидаетесь?
– Завтра? – переспросил отец. – Так сегодня же… Нет?
– Задерживаются, – бросил Антон. – Так как же, Надя? Останетесь? Мы не страшные, мы хорошие.
– Задерживаются? – переспросил Степан Ильич.
– Да вы не волнуйтесь, – ответил Антон. – Они перед поездкой в Любореченске задержались дольше, чем думали, так что…
Надя, стараясь не смотреть на отца, нервно скривившего губы, сказала:
– Что ж, если приглашаете – с удовольствием останусь.
Юленька, обняв снизу живот, стояла за спиной Антона – несколько боком, отчего напоминала швартующуюся к пристани баржу. Надя еще раз посмотрела на нее. Ничего не изменилось: ни досады на незваную гостью, ни обыкновенной вежливой приветливости, которую Надя наверняка получила бы в подобной ситуации в своем кругу, в какой-нибудь новой студенческой компании. Отстраненность: ты чужая, ты – не в счет. И Наде захотелось вдруг сказать что-нибудь Юленьке, что-нибудь решительное и пылкое: “Я такая же, как ты. Я тоже хорошая. Я тоже люблю говорить людям ласково. Я тоже, я тоже!” Юлин взгляд был едва ли не самой важной причиной, по которой Надя решила остаться.
Веранда, как и рассчитывал Фима, была пуста.
– Теперь куда?
– Туда вон. Там почище.
Они пошли к дальним столикам. Внизу догуливала свадьба. Чужой праздник, на который Фима поглядывал сквозь лучи иллюминации, превратился в старый любительский фильм на полуживой пленке: краски, разбавленные молоком, люди, стертые до консистенции призраков. На площадке перед растущим немного вкось фонтаном под томное танго покачивались, будто убаюкивая друг друга, жених и невеста. Хмельные свадебные кавалеры рисково опрокидывали визжащих партнерш к земле. Официантки убирали со столов, демонстративно громко стуча тарелками.
Фима сдвинул грязные стаканы с середины стола и сел, сунув руки в карманы куртки.
Саенко, оставаясь на ногах, еще раз подробно оглядел Ефима, точно искал что-то.
Под этим жестким пристальным взглядом Фима снова затосковал. С тех пор, как не стало Владычного Стяга и Фима со своими товарищами присоединился к Православной Сотне, ему кажется – он постоянно ходит под чьим-то испытующим взглядом. Живет, как в рентгеновской кабинке. Тоска частенько хватает его за сердце. “Что-то не то, – говорит он себе и тут же отмахивается: – Ничего. Присматриваются. Пусть”.
Но сомнения не отпускают, вяжут по рукам и ногам. Нет, не принимают их сотенцы по-настоящему. А примут ли?
Зыбко. Скользко. Темно. Так и идет, спотыкаясь на каждом шагу.
– Где работаешь? – Саенко сел напротив, огляделся зачем-то.
– Пока нигде.
– Вот как? На наши денежки, стало быть, харчишься?
– По мне ведь военкомат плачет. Куда я устроюсь? Пока не нашли меня вояки, а я не напрашиваюсь.
– Так я и смотрю – вроде как раз тебе время подошло. Чего не идешь-то?
– Не знаю, может, и пойду скоро. Как надумаю. Отец Никифор просил пока при нем побыть.
– Да?
– Ну да.
– Чем-то ты ему понравился, а, Ефим? Как думаешь, чем?
Плоский луч прожектора, выраставший из-за дубовых перил, взвинчивал Фиме нервы.
Он специально увел этого напористого, каждым своим словом давящего на него человека в самый конец веранды – подальше от случайных глаз. Все-таки допросы принято вести в интимной обстановке. Но сидеть здесь оказалось неудобно. Один из прожекторов иллюминации бил в потолок у них над головами. Подсвечивая фасад, подсвечивал заодно и лица – набрасывал на них черно-белые рельефные маски. Фима тщетно пытался разглядеть лицо собеседника.
– Вот уж выбрал местечко, – Саенко сощурился на свету. – Ты чего такой вялый?
Всегда такой?
– Завтра дело. А нам до сих пор ничего не рассказали. Что нам поручат, что будет, где?
– А ты не торопись, Ефим, не торопись. Всему свой черед. Завтра… Может, и не завтра. Может, ничего и не будет.
– Мы у вас как бедные родственники.
– Ух ти! А вам хотелось бы как – чтобы вас кашкой сладкой кормили?
– Антон другое обещал.
– Да? Что же он тебе обещал?
– Ладно, оставим.
– Оставим? – Саенко усмехнулся, вернее, тени на его лице сложились в новую гримасу, нарисовали усмешку. Фиме вспомнилась детская забава с зажженным фонариком, приложенным к подбородку. – Что обещано, того еще заслужить надо, – сказал Саенко и предплечьем сдвинул грязную посуду на самый край стола. – Скажи-ка мне, дружочек, далеко ли ты готов пойти во имя Руси Православной, во имя светлого нашего дела? Какую цену готов платить?
Фима знал, что должен ответить быстро и убедительно – но не мог. Почему-то не мог заставить себя произнести то, чего от него ждут. Вдруг понял, признался себе, что не в силах сейчас ни произносить, ни слушать такие слова. Сейчас нельзя. Что-то не так.
Вот и колокол не звонит ведь с утра до ночи.
Молчал, и с каждой секундой этого глухого молчания что-то непоправимое надвигалось на него. Фима чувствовал себя так, будто он трусит перед поединком и никак не может взять себя в руки. “Нехорошо он спросил, – подумал Фима, удивляясь собственным мыслям. – Бац! “Какую цену?” Опросник заполняем, что ли?” Понятно, что Виктор Саенко, которого он видел до этого от силы раза три-четыре, появился тут неспроста и встреча с ним в “Веселом Посаде” по пути из Несветая в Солнечный была заранее спланирована, и у этой встречи была конкретная цель, и этой целью был он, Ефим. Саенко, занимавший какое-то высокое место в иерархии Сотни, видимо, взялся прощупать его перед делом. Может быть, и других ребят сейчас кто-то вот так же прощупывает, задает вопросы, томит рентгеновским взором своим.
И здесь то же, что было в Стяге: сами позвали, а что с ними делать – не знают.
Не столько испытывают, сколько третируют. То соберут всех в воскресный вечер, спросят, кто с утра на службе был, – и тех, кто не ходил в церковь, отправят домой. А тех, кто был на службе, попросят листовки по почтовым ящикам разнести.
И все. То в спортзал позовут, побиться – а перед боями молитву принято читать. В Сотне в спортзале другую молитву читают – “Против супостатов”, а стяжники научены свои читать – “Перед сражением” и “Александру Невскому”. “Читайте нашу, как у нас заведено”, – говорят сотенцы.
Лаполайнена Филоном прозвали. Как-то раз отец Никифор уезжал из Солнечного в Любореченск, а Лапа попросился с ним. Возле машины батюшка вспомнил, что забыл в доме ризу: по дороге в Солнечный крестил в Шанцевке инвалида на дому.
– Принеси-ка мне фелонь, – попросил отец Никифор.
В том месте, где указывал батюшка, Лаполайнен фелони – она же, понятно, риза – не нашел. Отцу Никифору некогда было ждать, и он велел оставить записку сотенцам – те должны были наведаться в Солнечный позже, с тем чтобы оттуда ехать к батюшке в Шанцевку – пусть они захватят с собой его фелонь. Лапа – может быть, второпях – написал в записке: “о. Никифор просил захватить его филонь. Она где-то в его комнате”. Вот и стал Лапа для сотенцев – Филоном.