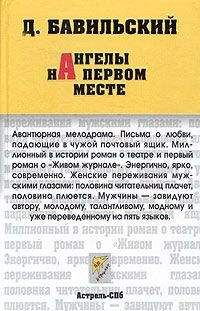Пока еда разогревалась, Макарова успела сбегать проведать мужа, заодно и переоделась, поспела вовремя, Мария Игоревна даже не заметила её отсутствия.
Так они и сидели перед телевизором, медленно разговаривая. Мария
Игоревна вспомнила, что завтра у неё спектакль, а она замоталась, даже и не подготовилась как следует, не повторила текст. Макарова поняла это как намёк, засобиралась.
– Ничего-ничего, ты мне не мешаешь, – сказала Мария Игоревна, уже давно привыкшая к своему прокуренному одиночеству. – Знаешь что, приходи завтра на меня посмотреть. Завтра – лучшая моя роль…
На самом деле она так не считала, случались в её биографии спектакли посильнее да поинтереснее, завтрашний так вообще был обычным, рядовым. Но ей захотелось придать ему особый статус. Для того, чтобы утешить Макарову, наверное.
И уже в дверях, почти напоследок, всучив ей тапочки, пахнущие обувным магазином, она взялась расспрашивать Макарову про жизнь
Царя. Часто ли встречались? Ходил ли он, например, в бассейн? Ну, то есть были ли в его жизни регулярные мероприятия или обряды?
С ходу Макарова ничего сообразить не могла, обещала на досуге подумать, приплела зачем-то своего парализованного мужа, к которому раз в неделю приходит эффектная врачиха – длинная, сухопарая, с роскошными волосами до плеч.
На том и расстались.
12.
Ночь Мария Игоревна провела без сна. Сначала даже ложиться не хотелось, так и сидела перед телевизором, вспоминала покойную маму, потом механически, сомнамбула, перешла в спальню, легла под одеяло, задумалась.
Вспомнила, что не поужинала, но вставать не хотелось, так и лежала, уставившись в потолок. Мысли и воспоминания гудели и теснились в голове, словно разбуженный улей – с одной стороны, множество людей, событий, какие-то эмоции, а с другой – ничего конкретного, обрывки, звуки, пятна…
Когда человек взрослеет, в нём практически не остаётся живых и непосредственных чувств, лёгких, возвышенных, ломких. Инерция, память о пережитом, опыт создают слишком долгую тормозную дорожку для эмоций, которые густеют, становятся непроходимо плотными, превращаются в страсти. Любая страсть – это чувство, потерявшее новизну и гибкость, это машина, везущая саму себя и разрушающая равновесие, а значит, и человека.
Страсти – прямые свидетельства дряхления ума, погрязшего в шлаке отработанных смыслов; это – диагноз о прекращении роста тела; это – знак гниения души.
Постоянными бдениями в почтовом отделении Мария Игоревна довела свой организм до исступления, она теперь даже курить забывала, и страшно казалось выходить на улицу: любой прохожий мог оказаться Игорем или его неразделенной любовью.
А ей так и казалось, что неуверенная походка или рассеянность – первые признаки неудачного эпистолярного романа, и стоит раскрутить прохожего на откровенность, как вскроется целебная её сердцу тайна…
Или это всё-таки Царь?
13.
Она и спектакль-то сыграла автоматически, не выходя из транса (тем более что роль тому только мирволила), нырнула за кулисы и тут же забыла про театр, потому что из-за него пришлось пропустить целый день наблюдений за посетителями почтового отделения, а вдруг сегодня она бы встретила женщину… или получила бы письмо…
Хотя, с другой стороны, чего греха таить, ничего бы она не получила, никого бы всё равно не встретила, ну, что за игры, ведь не девочка уже, далеко не девочка. А всё туда же…
Она забыла про спектакль, но люди вокруг не забыли. Оказывается, сегодня был юбилейный, сотый показ, театральные пришли поздравлять её, принесли шампанского, закуски, набились в гримёрку целым взводом – артисты, реквизиторы, одевальщицы, даже завлит Галуст пришёл, принёс большую багровую розу с начинающими увядать, печальными лепестками.
Вот и Макарова пришла, появилась бледной тенью, не ожидала увидеть такое количество народа, как бедная родственница, протиснулась в дверь, замерла, словно бы в ожидании, когда её заметят и позовут.
Ну, как не заметить!
Мария Игоревна расслабилась, отвлеклась, забылась. Театральные -
они ж как дети в песочнице, шумные, дерзкие, агрессивные, все кричат, перебивают друг друга, каждый хочет оказаться центром внимания. Как это обычно на театральных сборищах случается, тут же образуются какие-то посторонние, никому не знакомые люди, шумящие и размахивающие руками, занимающие пространства больше всех.
Мария Игоревна царственно молчит, позволяет высказаться любому, выпускает сигаретный дым в потолок, улыбается, словно верит всем этим проявлениям внимания, которые через полчаса схлынут, как прилив, оставив после себя сухой песок и камни.
14.
В театре – всегда вечер: электрическое освещение и искусственные страсти. Спектакли в театре – не самое интересное, не для того он, театр, живёт. Гораздо существеннее оказывается всё то, что скрыто от зрителей.
Макарова наконец оказалась замечена и приближена. В театр она пришла после похорон, под шафе, застенчиво улыбалась и много курила. Очень уж ей хотелось поделиться пережитым. Тапочки в гроб, ага, положила.
– Ох, какой хороший спектакль… – жарко зашептала она актрисе в ухо так, чтобы никто не слышал. И было непонятно, лукавит она или ей и в самом деле понравилось. И тут же, без перехода: – Я всё выяснила.
Каждую неделю к Царю приходила массажистка. Кажется, у них завязалось нечто вроде интрижки…
Макарова многозначительно замолчала, хотя для чего Марии Игоревне такие странные данные, она понятия не имела.
– Кроме того, пару раз в месяц Царь навещал карточный клуб, где играл в преферанс. Но это, так сказать, не по женской части: членами клуба могли стать только состоятельные мужчины.
Мария Игоревна слушала, кивала, блаженно улыбаясь сослуживцам. У тех уже давно образовался свой круг, иные интересы, разговоры. Особенно активничал Галуст, распушивший хвост перед Гелей Соколовой-Ясновой и молоденькой актрисой Рамилей, весьма симпатичной.
Завлит рассказывал, что в программке к последнему выпущенному спектаклю перепутал фамилии исполнителей – назвал Диму Шахова совершенно другой фамилией постороннего театру человека – спортивного журналиста Артёма Шевченко, весьма известного в
Чердачинске и его окрестностях. Видимо, составляя программку, думал о посторонних материях, вот и ошибся. И теперь, несколько деланно, опасался праведного Шаховского гнева.
– Кроме того, Царь достаточно регулярно наведывался в "ОГИ", кафешку
"для новых умных", где книги продаются круглосуточно и собираются самые отъявленные жежисты, – продолжала усердствовать Макарова, совершенно не знающая как же следует вести себя в незнакомой компании.
– Кто-кто? – Не поняла Мария Игоревна.
Макарова поняла, что проговорилась. На её счастье, в гримёрку свежий, словно морской ветер, ворвался актёр Димочка Шахов. Рамиля вскинула на Шахова испуганные глаза (сейчас начнётся!), а Галуст покраснел ярче обычного.
15.
Шахов был пьян, вот и скандала, казалось, не избежать. Геля развернула мощный торс в сторону Шахова, будто бы защищая Галуста,
Рамиля притихла в углу. Однако настрой Шахова был весьма добродушным. Сначала он приложился к ручке Марии Игоревны, затем схватил беспризорный стакан с вином и только потом увидел пунцовую физиономию завлита. Массовка напряжённо следила за развитием набухающего сюжета. Но Шахов расплылся в улыбке и полез к завлиту чокаться. Совершенно не агрессивно. Заинтересованно как-то.
– Ты мне нужен парень, – сказал он Галусту. – У меня для тебя идея.
Рамиля нервно хихикнула.
– Что такое? – Галуст старался казаться спокойным.
– Тебе не попадалась документальные пьесы? – зачем-то подмигивая завлиту, спросил Шахов.
– Попадались, конечно. Столичные критики их здорово пропихивают… Но это же совершенно не наша эстетика. А зачем тебе?
– Так… Услышал от ребят, – говорил Шахов поставленным голосом, словно на сцене: любыми способами театральные любят подчёркивать свою значимость. – Говорят, дико модное направление, – добавил он со значением.
– Да… – У Галуста появилась возможность проявить компетентность. -
Пьесы, построенные на реальном материале… Их действительно сильно продвигают сейчас в наш русский… российский… театр. Письма с фронта, рассказы проводниц в поездах… Но нам они чужды. Эстетически. Хотя бы по способу существования. Мы же консервативный театр…
16.
Мария Игоревна, тоже вполголоса, принялась объяснять Макаровой, что
театральные постоянно рассказывают о своих идеях, планах, которым никогда не суждено сбыться. Потому что театральные любят говорить, а не работать. Добрая половина труппы постоянно пасётся у Галуста в кабинете, спрашивает новые пьесы, жаждет интересной работы, но всё это заканчивается задушевными разговорами, пьянками, похмельем. Геля вон (сигаретой Мария Игоревна указала на подругу) второе десятилетие носится с идеей мемуарного сборника про умерших артистов. А воз и ныне там. Странное дело, но актёры совершенно не способны на серьёзные инициативы, мы же только исполнители чужой воли, чужих слов, понимаешь?!