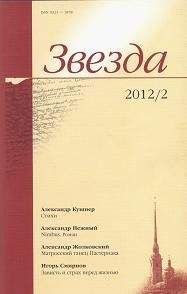Надо ли говорить, что, как только он показался на пороге, она отбросила очередную картинку, на сей раз — с изображением красавца-гуся. Женщины еще оглашали воздух горловым «г-г-г», а Варвара кинулась к Федору Петровичу, обеими руками стараясь уловить его правую руку. Он, однако, успел спрятать ее за спину.
— Варвара! — выговорил ей он. — Я разве епископ?
— Больше, сударь вы мой, куда больше! — восторженно лепетала она и снизу вверх преданно засматривала ему в глаза. — Они разве кого спасли? А вы, сударь…
Он оборвал ее.
— Будет тебе. Скажи лучше, все ли у вас здесь ладно?
— У нас, — с чувством отвечала она, — так, сударь, хорошо, так благодатно! Прямо как в раю. Не скажешь, что тюрьма. Девоньки, — обратилась Варвара к своим подопечным, — ай не правду я говорю?
И девоньки, младшей из которых было не более пятнадцати, а старшей — не менее пятидесяти, согласно кивали, гоня от себя прочь тягостные мысли о неизбежном этапе. Там тебе уж не рай; там ад сущий до самой до Сибири, а что в Сибири, о том лучше до поры не тревожить сердце.
— А вот которого днями с этапом пригнали… ну, он вроде порешил кого-то… Сергеем звать. Был, сударь мой, совсем плох, сейчас поправился, а все места себе не найдет. Тоска его гложет, — кивнула Варвара, заправляя под платок выбившиеся тусклые, с проседью, рыжие волосы. — Я-то вижу! Я ему давеча так и сказала: ежели тебя, парень, грех душит, ты покайся… У нас и храм намоленный, слезами раскаянных грешников омытый, и отец Александр ка-акой хороший добрый батюшка, ступай к нему. А он мне, сударь, с такой злобой, поди-ка ты, говорит, свои молитвы читать, а от меня, говорит, отстань! И дверью-то — грох! Я вздрогнула вся. И фельдфебель на ту пору дежурный, Иван Данилыч, мухи не обидит, такой хороший, добрый человек, он ему и то внушение сделал. Тут, говорит, тебе не кабак, а больница, да еще тюремная, изволь, говорит, соблюдать…
Гааз прервал ее.
— Ты шумишь, как Рейнфол.
Она вопросительно вскинула едва заметные брови.
— Водопад на Рейне, сударыня, — тихо смеясь, объяснил он. И уже с порога добавил: — В Европе самый большой.
Однако нарисованный Варварой, пусть даже чересчур поспешными и, может быть, не вполне достоверными чертами, портрет Гаврилова его встревожил. Быстро, одну за другой, навестив три палаты, он вошел в четвертую, угловую, из окон которой открывался чудный вид на Москва-реку и раскинувшийся за ней город, покрытый серой, просвеченной солнечными лучами дымкой. При его появлении все встали, только Гаврилов остался лежать, натянув на голову черное суконное одеяло. Сосед, старик-старовер, с белой чистой, отливающей серебром бородой ткнул его кулаком в бок.
— Ты че?! Федор Петрович к нам…
Кашляющий устрашающим надрывным кашлем высохший мужичок зло пробормотал:
— Все люди как люди, а он как хрен на блюде…
Гаврилов откинул пропахшее лекарствами одеяло, повернулся на спину и уставился в потолок сухо блестевшими глазами с покрасневшими веками. Пропади все пропадом. И старовер бородатый, о чье железное начетничество обломал зубы десяток православных миссионеров; и мужичок-доходяга, кого сжигает чахотка вместе с пропитавшей его злобой; и тот, в углу, по ночам то призывающий Бога, то проклинающий Его страшным проклятием, то принимающийся стонать о своих детках, при живом отце обреченных на сиротство; и этот старый немец в странном наряде, который, похоже, не переменял с полвека. Будто только что с театральных подмостков. Или освободит он Гаврилова? Очистит от клеветы? Скажет: идем на волю, Оленька истомилась ждать тебя у ворот? Как бы не так. Он резко повернулся на правый бок, лицом к окну. Москва открылась ему — с проблескивающими сквозь дымку золотыми куполами, зеленью лугов на том берегу реки и темной листвой садов. Глубоко сидевшая в воде лодка тяжело выгребала против течения. Ведь он уже и дом втайне облюбовал на Плющихе, где после венчания мечтал поселиться вместе с Оленькой! На втором этаже три комнатки, кухня и верандочка с цветными стеклами. Решетки на окне безжалостно указали ему истинное его место: приговоренный судом убийца, арестант, этапник. Через всю Россию пойдешь на пруте в Сибирь. Каторга вместо Плющихи, верандочки и счастливой жизни с Оленькой. Вместо цветных стекол сплошь черное. Прошлое с его светом, надеждой и любовью уничтожено; будущего тоже не было. Он повернулся на другой бок, спиной к окну, и встретился взглядом с глазами Гааза все с тем же, с первой встречи запомнившимся Гаврилову выражением сострадания и боли.
— Лежите, — махнул рукой Федор Петрович, садясь на край топчана, рядом с Гавриловым. — И я передохну. А то весь день… еще посетить тюремный комитет, и вечерний обход в больнице… Но… — И он промолвил с едва заметной улыбкой: — Eigene Last ist nicht schwer.[25]
— Ну да, ну да, — поднялся, сел, привалившись спиной к стене, и с поспешностью и раздражением заговорил Сергей. — У вас ноша своя, она и не тянет. И у меня была моя собственная ноша, и я ее никогда не ощущал. Мне даже от нее весело было. Все думал: ах, Господи, как же хорошо жить! А теперь мне вместо моей любимой ноши камень на шею… Жернов! И в воду. Тони. И никому во всем свете…
Тут его голос дрогнул, и на темных — Оленька говаривала, кофейных — глазах совершенно против воли выступили слезы. Вот еще! Он отвернулся, чтобы немец не составил себе ложного представления о слабости его натуры. Никакой слабости. Ни одна душа в мире не знает о его решении самому свести последние счеты с жизнью, если станет невмоготу от унижений каторжного состояния. Уйти, не дожидаясь, когда втопчут в грязь. Слез прибавилось, он сморгнул. Сквозь переплет решетки, как в тумане, была перед ним Москва. Вдалеке дрожал и расплывался храм Христа Спасителя, еще не одетый золотыми шапками. Немец накрыл своей большой теплой ладонью его ладонь.
— Голубчик, — мягко промолвил Федор Петрович. — Ну что вы, право. Напрасно. О вас так много думают. Вам сострадают. Ваша матушка, мне известно, написала государю…
Слезы высохли. Порыв ветра со стороны Воробьевых гор погнул верхушки яблонь в садах на том берегу. Гаврилов выдернул ладонь из-под ладони Гааза и проговорил теперь прямо в лицо ему с отчаянием человека, за которым сожжены все мосты.
— Вы совершенно не понимаете. Вы не можете понять… Я знаю отчего. Я здесь догадался. Мы в разных мирах, я, они, — он обвел рукой обитателей палаты, — и вы. Вы приехали, навезли всякой снеди… о спасибо! спасибо! Несчастные, — со злой усмешкой прибавил Гаврилов, — вас боготворят. Да еще кандалы какому-нибудь счастливчику замените. Вот благо! Были оковы неудобоносимые, стали полегче. Доктор придумал! Благодетель! А по мне, — с вызовом объявил он, — кандалы и есть кандалы. Они не могут быть лучше или хуже, потому что… потому что это знак раба! А удобные… ваши… кандалы, если желаете, это еще более изощренное издевательство… Да! Они примиряют человека с унижением. И эта ваша больница, и апельсины, и Евангелие на дорожку… В каторгу! Ужасное фарисейство. А… ладно. Вы приехали — и уехали. А нам здесь догнивать. Или на этапе. Или в рудниках где-нибудь… — Голос ломался, он глубоко вздохнул. — Я вам хочу сказать… Да! Вот, кстати. У нас был поэт замечательный…
— Пушкин? — поднял наконец опущенную голову и робко догадался Гааз.
— У нас в России, — сухо и даже с некоторым презрением сказал Гаврилов, — есть поэты помимо Пушкина. Полежаев Александр его имя. Он умер не так давно при трагических обстоятельствах, а за чтение его стихов из университета исключали. Но я читал и запомнил. О, для чего судьба меня сгубила? — вместе с поэтом Полежаевым задал Сергей вопрос, так близко и так больно относящийся к нему самому. — Зачем из цепи бытия меня навек природа исключила, и страшно вживе умер я? Вживе умер я, — повторил он. — Понимаете? Я жив, но я мертв! Они все — мама, Оля, друзья — они все остались там, — он указал на окно, забранное решеткой, — в другой жизни, где меня нет и уже никогда не будет! Меня похоронили. Я сам себя, — мрачно усмехнулся он, — похоронил и сам себе пропел «Вечную память».
Гааз слушал его, страдальчески морща лоб и что-то шепча про себя, словно порываясь двумя-тремя разумными словами переменить направление мыслей Гаврилова и внушить ему, что безответственно и непозволительно молодому человеку, пусть оказавшемуся в тяжком положении, столь поспешно ставить на себе крест. Как можно хоронить себя в девятнадцать лет? Нет, нет, нельзя впадать в уныние, предаваться отчаянию, убивать надежду. В страдании есть свой эгоизм, своя, если желаете, гордыня. Мир беспричинно отверг меня, я в ответ с полным правом отвергаю мир. И потому чем хуже, тем лучше. Лучше в том смысле, что в злобе мира яснее выявляется его подлая сущность. Сударь! Взгляните вокруг без ожесточения — и вы увидите столько горя, что ваше собственное покажется вам с горошину. Научитесь снова любить людей, и вам — поверьте старику — станет намного легче.