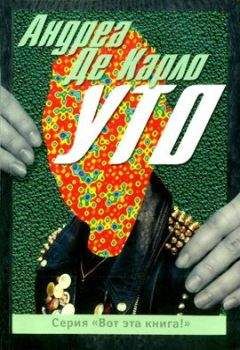– Вы видели? – спрашивает Марианна.
От возбуждения ей не стоится на месте, она бросает восторженные взгляды то на стеклянную дверь, за которой скрылся гуру, то на потерявший краски закат, поворачивается на триста шестьдесят градусов, подбегает ко мне и хватает меня за руку. Витторио стоит поодаль, спокойно наблюдая за женой. Она бежит к нему, чмокает его в щеку, целует Джефа-Джузеппе, целует Нину, которая балансирует на прямых ногах, перенося центр тяжести с пятки на носок и обратно. Не остаюсь без поцелуя и я.
В машине по дороге домой она спрашивает, наклонившись ко мне:
– Ты видел, как Свами на тебя смотрел? Он редко на кого так смотрит.
Я киваю в ответ. У меня нет желания поддерживать этот разговор.
Витторио приближается еще на шаг
ВИТТОРИО: Уто!
(Стоит в середине гостиной, как всегда, полный энергии. В глазах – жажда общения, чувство собственника по отношению к гостю.)
Уто Дродемберг не отвечает, продолжая читать – не читать книгу об учении дзэн и искусстве стрельбы из лука.
ВИТТОРИО: Уто! Извини.
УТО: Да?
(Как будто только что заметил его присутствие. Отзывается неохотно.)
ВИТТОРИО: Ты мне не поможешь? Все мужское население мобилизовано на расчистку снега. Многие дома отрезаны от мира, нужно выручать людей.
УТО: Ну, если нужно…
(Он не улыбается, не вскакивает на ноги, не откладывает книгу. Ему никогда не нравились отношения отец – сын, дядя – племянник, отчим – пасынок; ему не нравится такое понятие, как мужская солидарность, не нравится, когда о конкретных делах говорят намеками. Ему не по душе упоение боем, тайное соперничество, фиги в кармане, симуляция активности, регулированные кормежки, подбадривающие взгляды, осуждающие взгляды, щупающие взгляды.)
ВИТТОРИО: Не хочешь, не надо. Никто тебя не заставляет.
Благотворный дух Мирбурга. Следуй он своему врожденному духу, гаркнул бы мне: «Шевелись, бездельник!» и выволок бы на улицу за шиворот. Должно быть, ему стоит постоянных усилий выглядеть терпимым, чутким, внимательным – таким, каким его хотят видеть: об этом каждый раз, когда он обращается к Уто, или к Джефу-Джузеппе, или к своей дочери Нине, свидетельствует его бархатный тон.
В конце концов Уто Дродемберг кладет книгу, встает и переходит вслед за Витторио Фолетти в барокамеру, где молча надевает ботинки и куртку. Повторение этого ритуала становится невыносимым: приходишь – стаскивай с себя куртку и расшнуровывай ботинки, уходишь – опять одевайся, уж лучше все время сидеть дома или торчать на улице, помирать от духоты или от холода. Он вылетает на улицу, от злости не зашнуровав до конца ботинки и не застегнув привычным движением молнию на куртке.
Снега навалило метра на полтора, не меньше, проходы, которые расчистил Витторио вокруг дома и в сторону дороги, выглядят глубокими траншеями на войне за Полярным Кругом, густой морозный воздух настолько плотен, что приходится преодолевать его сопротивление.
В машине уже лежат две лопаты. Витторио едет с черепашьей скоростью по невидимой дороге: если бы не лес по обе стороны, ее было бы не найти.
– Хорошо, когда ты не одинок, – говорит он. – В случае чего все приходят тебе на помощь. Бывает, что до этого ты подолгу не видишь ни единой живой души, понимаешь? Община есть, но ее как бы и нет, никаких внешних признаков.
Никаких внешних признаков не только общины, но чего бы то ни было вообще в этом царстве сугробов: все равно что плыть в сплошном молоке, стволы деревьев – вот и все ориентиры.
Когда я только приехал сюда, – продолжает Витторио, я подумал: «Ничего не умеют толком организовать». И ошибся. В том-то и гениальность гуру, что ему и в голову не пришло создавать некое подобие казенного учреждения. Он хотел, чтобы люди жили в нормальных условиях. Чтобы у них было время и пространство, позволяющее им думать самостоятельно, выбирать собственный путь без чьей-то подсказки.
Мы ползем к шоссе по белой целине, и мне кажется, что, несмотря на четыре здоровенных ведущих колеса и все такое, «рейнджровер» неважнецки держит дорогу и что руль плохо слушается Витторио.
– Ну как тебе наш гуру? – спрашивает он. – Обратил внимание на его глаза? Он все видит, хотя и не показывает этого. Знаешь, что убедило меня остаться здесь четыре года назад? Его глаза!
Мы уже на шоссе, здесь, по крайней мере, успел проехать снегоочиститель, справа и слева высятся по обочинам плотные белые стены.
– У меня были большие сомнения, когда я приехал, – объясняет Витторио. – Знаешь, что мне казалось? Что люди разочарованы, что у них есть тысячи причин считать себя несчастными, и вот они заявляют, что им не хватает духовности и отправляются за духовным товаром на Восток.
Мы проезжаем мимо первого дома, перед ним стоит джип, и два человека с лопатами, разгребающие снег во дворе, машут нам.
– К тому же я был уверен, – продолжает Витторио, – что мне придется поставить на себе крест как на художнике, что я не напишу здесь ни одной картины. Поначалу так и было. Мы снимали дом недалеко отсюда, похожий на большую дачу-прицеп, и этот наш первый дом, насквозь пропитанный тоской, был для меня среднеарифметической Америкой. Марианна ходила слушать гуру и часами медитировала в храме, когда она возвращалась домой, у нее были такие глаза, словно она приобщилась к чуду. Нас разделяли световые годы. Она познакомила меня с гуру, он показался мне хитрым стариком. Так я и сказал Марианне, но она отнеслась к этому спокойно. С некоторых пор мы полностью потеряли контакт друг с другом. Я стоял у окна перед мольбертом, но у меня ничего не получалось: холст оставался пустым. Я шел гулять с Джино, ходил с ним по несколько часов, он был еще щенок, я его, бедного, выматывал этими прогулками.
– А Джеф? – спрашиваю я, думая о том, как эта версия отличается от первой, которую я слышал от него и Марианны.
– Джузеппе учился в школе в Фоксвилле и ничего не понимал. Несколько часов на дорогу – автобус туда и обратно, ни слова по-английски и постоянные насмешки одноклассников. Марианна стала называть его Джефом, как будто это могло ему помочь. Я смотрел на него вечером перед сном и говорил себе, что это даже не мой сын, я не понимал, зачем я здесь. Я скучал по Нине, тосковал по привычной жизни, мне не хватало моих женщин, моих друзей, моего дома, моей музыки, моей машины, вина, виски, мяса, всего. Мне не хватало Италии, не хватало Европы. Не хватало суматохи, неожиданностей. Предвкушения неожиданностей, с которыми связана жизнь в городе, понимаешь? Живешь и чего-то ждешь, может быть, это и заполняет жизнь, верно? Мне казалось, что вокруг пустота, вакуум. Я часами сидел на телефоне – это была для меня единственная связь с миром, с далеким миром.
Он поворачивает на боковую дорогу, занесенную снегом, «рейнджровер» ползет по ней на малых оборотах.
– Я еще был пленником на земле, – продолжает он. – Еще был рабом.
Через полкилометра мы доезжаем до невысокого дома, который кажется еще ниже из-за наметенных вокруг сугробов. Витторио гудит, дверь дома приоткрывается, из нее выглядывает лысый человек, радостно машет нам рукой.
– Видишь? – спрашивает Витторио, как бы обращая мое внимание на то, что разговоры о помощи здесь не пустой звук. Он выходит из машины, кричит: – Привет, Ранапурти!
– Привет, ребята! – трубным голосом отзывается лысый и, словно он делает нам одолжение, позволяя расчистить проход к его дому, добавляет: – Бог в помощь!
Спасибо! – кричит Витторио, поддерживая идею об одолжении.
В руке у лысого пакетик с инжиром, теперь он жует и, снова помахав нам, исчезает за дверью своего невысокого домика, окруженного сугробами. Ему и в голову не приходит принять участие в собственном освобождении, для него совершенно естественно, что этим займемся мы. Я бы с удовольствием рванулся за ним вслед, вытащил его на снег и заставил взяться за одну из двух лопат, которые мы привезли.
Должно быть, Витторио прочел мои мысли.
– Ранапурти – святой, – объясняет он мне, – он совершенно не приспособлен к практической жизни. Он пишет важную книгу.
Мне бы спросить, на чем основана его уверенность в важности будущей книги – на том, что ему говорила Марианна, или на общем мнении, или на том, что она пишется в таком месте?
– Если ему не помочь, – убеждает меня Витторио, – бедняга так и останется взаперти.
Он тоже считает совершенно естественным гнуть спину на лысого слюнтяя, который тем временем сидит в тепле и жрет инжир. Интересно, есть ли предел приобретенным Витторио качествам – терпимости и доброжелательности, – и где он, этот предел, и что нужно, чтобы переполнить чашу.
Я тоже выхожу из машины и почти по пояс проваливаюсь в снег. Проходит несколько минут, пока мы, утопая в глубоком снегу, добираемся до багажника.
Витторио вручает мне одну из лопат, сам берет вторую и принимается разгребать снег – сначала вокруг машины, затем от носа машины до облепленной снегом калитки. Он действует умело, в темпе: взмах лопаты – вдох, еще взмах – выдох, полшага вперед, еще полшага, за минуту он продвинулся на несколько метров.