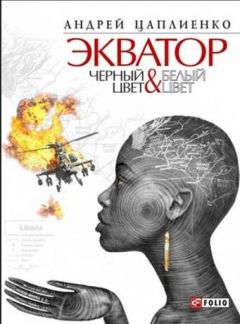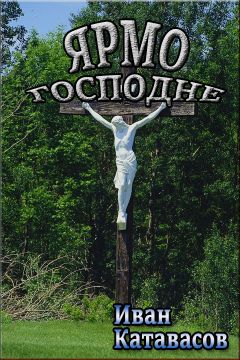«Немного же времени нам понадобилось, — подумал он с колючей досадой, — чтобы возник этот странный мир. Хватило и двух десятилетий».
Он попытался усмехнуться. «Внимание! Исторический миг! Герман Лецкий на рубеже эпохи переживает — и так болезненно! — банкротство своего разночинства».
Однако легче не становилось. Обидней всего было сознание, что будет так, как она захочет.
Но выяснилось — и она не всесильна. Погожим утром раздался звонок. На этот раз — Валентина Михайловна. Необходимо срочно увидеться.
Она явилась в условленный срок с вопросом: существует ли место, где он бы сумел надежно укрыться? Скажем, на месяц, на полтора? Вдаваться в подробности нет резона. Он худо оценил обстановку, уверовал в свою самоценность. Способный малый, но — заигрался.
Он ощутил противный холод. Вспомнил слова старухи Спасовой: «Коль замахнулся — не трепещи. Нет ничего на этой планете комичнее мании величия, приправленной комплексом неполноценности». И он озлился, он огрызнулся: «Это напутствие для державы, а не для подданного». Спасова фыркнула: «Для верноподанного — в первую очередь». Всевидящая сова права. Оказывается, он слаб в коленках.
Лецкий растерянно пробормотал:
— В чем дело?
Валентина Михайловна участливо опустила ресницы:
— Можешь поверить, дело дымное. Надо, звереныш, тебе слинять.
— Хотелось бы все-таки большей ясности.
— К чему она? Это, конечно, совет, но ты ведь знаешь: бывают советы, не подлежащие обсуждению.
И все же сдержать себя не смогла:
— Не хочется мне тебя лишаться из-за твоей жеребячьей прыти.
Прощаясь, взлохматила его волосы:
— Как видишь, я — хороший товарищ.
Это он слышал не в первый раз. Напоминает, что он — на крючке.
Лецкий поцеловал ей ладошку и уважительно произнес:
— В этом-то я давно убедился.
Оставшись один, он мрачно подумал: не ты ли все это соорудила? Ольга недаром предупреждала: хитрая, востроглазая злюка. Все верно. Черт бы вас взял обеих.
Он неизвестно кому пожаловался:
— Достали меня, проклятые юбки.
И тем не менее дама права. Этот совет не обсуждается. Поэтому он сидит в самолете, смотрит рассеянно в иллюминатор и путь его — в маленький южный город, где некогда он явился на свет. Столько уж раз собирался вырваться, взглянуть на родительские могилы, заросшие желтой сухой травой, понять, шевельнется в тебе хоть тень, когда ты припомнишь тех, погребенных, убитых своей любовью к сыну? Давно пора было это сделать, но разве найдешь свободный день?
Понадобилось повиснуть над ямой, услышать, как дышит в затылок стужа, чтобы почувствовать горький толчок. Можно еще и подекламировать: прими меня, родина, и укрой. Дай мне залечь на грунт, на дно, забрось меня в свои палисадники, в старые безглазые комнаты, где жили нелепые старые люди, чьим оправданием был лишь я. Как я намаялся в мегаполисе, как я устал от страны в стране, от государства в государстве. В толк не возьму, что его связывает с материком, продутым ветрами.
В памяти странно и беспорядочно мелькали разнообразные лица — с кем не сводила его профессия?! Перед глазами, один за другим, неслись депутаты, изобретатели, заведующие и управляющие, лекторы, дикторы, балерины, экономисты и плановики, целители и артисты цирка, актрисы, орнитологи, химики, министры и доктора наук.
При этом женщины проявляли недюжинную мужскую хватку, зато мужчины виляли бедрами и прихорашивались неутомимо. Ни те, ни другие не понимали, что все их усилия бесплодны, бессмысленны, ничего не стоят и, что бы они ему ни сообщили, все это на исходе дня выбросят на ближнюю свалку.
Впрочем, не зря многоопытный Бурский сказал ему некогда: «Не заблуждайтесь. Мир создается репортерами». Все думаем, как причесать белый свет, придать его железному лику нечто, внушающее надежду, пока нас не высмеют и не вытолкнут. Уходим, не зная: все дело — в нас, в том вывихе, в переломе духа, который сопутствует нам с рождения. Есть труп, зарытый в твоей душе, он-то и сделал ее гробницей невоплотившихся ожиданий. Если б с ним можно было разделаться! Но это еще один рудимент, доставшийся тебе по наследству. И с ним предстоит тебе существовать.
Но нет же! Он повернулся в кресле. Ты еще жив, и сдаваться рано. Еще остается главная книга, которую ты однажды напишешь. Главное слово. Глас человека. Великий постсоветский роман, который вберет в себя весь этот век, всю твою жизнь, твой ломаный мир с его усеченными вертикалями, несочетаемыми зигзагами, с нагромождением странных фигур. Твой крик в пространство. Твоя иллюзия.
И вдруг он застонал, как от боли, да так, что сосед на него покосился и инстинктивно подался в сторону. Забыл! Улетело из головы. Из этого полого набалдашника, который торчит на его плечах. Единственное, на что ты способен, — думать лишь об одном себе, своей судьбе, своей биографии, о городе, откуда ты родом, в который ты наконец собрался. Но — не о ком-то на этой земле — шаг в сторону был всегда непосилен.
А между тем через два часа в столицу прибудет потешный мальчишка, который имел несчастье поверить в земляческое гостеприимство! Сказал бы хоть слово старухе Спасовой! Ему захотелось затопать ногами от переполнившей его злости. Но он опомнился, огляделся, лишь яростно заскрипел зубами.
Пока он клеймил на все лады себя, своих подруг, свою память, свою сумасшедшую круговерть, которая его измолола и выплюнула в седьмое небо, старуха Спасова, как обычно, стояла у своего подоконника, смотрела на гомонящий двор и на соседние подъезды, на небо, темневшее над Москвой, на длинный змеистый проход под аркой, смотрела, но голосов не слышала — прислушивалась она к себе.
То слабое шевеление жизни, которое до нее долетало из тайных глубин ее существа, не обнадеживало, не радовало.
Она чуть слышно пробормотала:
— Ну что, Надюшка, дела-то плохи?
Но приказала себе улыбнуться:
— Все-таки люди — странная публика. Книгу ль читают, музыку ль слушают, молятся ли Господу Богу, только и требуют: дай нам надежду. Ах, милые, да где ж ее взять?
Она покачала большой головой, словно призвала себя к порядку:
— Знать бы тогда, когда я была не так дородна и не так басиста, что ужаса нет и нет даже зависти к тем, кто однажды примет вахту и станет выяснять отношения с коленопреклоненными душами. Однако хвалить себя не торопись. Усталость еще не признак отваги. «Warte nur: balde ruhest du auch». Оказывается, что я ничего не знала об этом сезоне жизни. Суров же ты, Творче, ох и суров.
— Пожалуй, что мне ничего не нужно. Это неплохо. Гораздо хуже, что и сама никому не нужна. И Лецкий давно не появлялся. Всех распугала своим язычком. Никто не хочет войти в положение.
«А от тоски-то ведь помирают», — вдруг догадалась старуха Спасова.
— Антошечка, — позвала она грузного лысого человека, который когда-то был ее первенцем, и шепот ее полетел в Калифорнию. Жизнь уже неслышно вздрогнула и окончательно изошла.
В эти же самые минуты за тысячу верст от Второй Песчаной стучали колеса многовагонного и зарешеченного состава. Он направлялся в лесную глушь, в далекое лагерное чистилище, но те, кто ехал в этом составе, чистилищем его не считали. Мечта была до него добраться. Там кончится наконец этап. Он кончится, и начнется жизнь.
Геннадий Сычов прильнул к окну, смотрел на пролетавший сосняк, ловил раздувшимися ноздрями таявший в воздухе запах хвои, безжалостно кусал свои губы, пытался то насвистать, то напеть какой-то бесшабашный мотивчик. Не получалось — он понимал: уже ничего не переделать и ничего не переиграть. На этот раз — все. Кирдык. Хрездец. Осталось лишь ненавидеть себя и все, что вокруг. Такая карта.
Летят поезда, и один из них глотает версты, спешит в Москву. Столица и Курский вокзал все ближе. Стоит в коридоре юный южанин, в окне убегают назад леса. Скорей бы, скорей. Молодой человек исходит от жажды, от нетерпения, еще мгновение — и взорвется.
Колеса стучат, точно гвозди вбивают в нагое распятое тело Земли — она отзывается дрожью, стоном, рыданием, мольбой о пощаде.
2007–2008