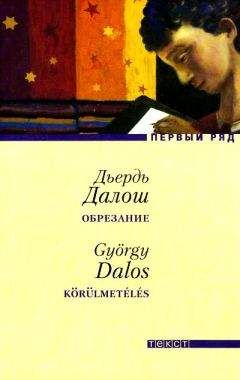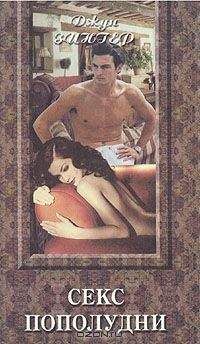Он не знал, сколько времени простоял на коленях перед тахтой; но когда он очнулся от оцепенения, за окнами светало, на проспекте Ленина скрежетали первые трамваи. Роби Зингер со страхом поднял глаза. Бабушка сидела, ровно дыша; чистым, спокойным голосом она сказала: «Дитятко мое, как я тебя напугала… Но самое плохое уже позади».
«Ты молилась, бабушка?» Жизнь возвращалась в душу Роби Зингера. «Еще чего! — ответила бабушка, приглаживая разлохматившиеся волосы. — Просто поговорила с ним». — «С кем?» — «С Господом Богом». — «И что ты ему сказала?» Бабушка помолчала несколько секунд, потом правой рукой вытерла лоб, поцеловала внука и с триумфальной улыбкой ответила: «Я спросила, не стыдно ему вытворять такое?»
Общее обследование, которое состоялось утром, касалось и бабушки. Терапевт, узнав о ночном приступе, объяснил его как невроз сердца и прописал успокоительные капли. «Ничего себе невроз! — ворчала бабушка в коридоре. — Я чуть в ящик не сыграла». Невропатолог нашел состояние здоровья бабушки удовлетворительным и «соответствующим возрасту». А глазник сказал, что давно не видел таких бодрых пожилых дам, что ей спокойно можно дать на десять лет меньше и даже новые очки не требуются. Бабушка этому обрадовалась: она и старые-то надела только по случаю обследования. То, что нашли у нее в это утро: некоторое расширение легких и не очень хороший желчный пузырь, — новостью не являлось.
Роби Зингер больше всего боялся анализа крови. На его покрытых жировыми подушками руках сестрички никогда сразу не находили сосуды; случалось, его исколют всего, прежде чем кровь польется в пробирку. Но на сей раз первая же попытка оказалась удачной, и врач даже похвалил юного пациента за храбрость.
«Пустяки», — ответил Роби Зингер, переводя дух после некоторого испуга. И они двинулись в рентгеновский кабинет.
На рентгеноскопии настаивала бабушка: ведь бедного Банди, говорила она, унесла чахотка, а ребенок вполне может унаследовать пусть не болезнь, но предрасположенность к ней. На экране, однако, никаких патологических изменений на обнаружилось. Рентгенолог дружелюбно спросил у Роби, кем он хочет стать, когда вырастет. «Искусствоведом, — гордо ответил Роби и добавил: — Предрасположенность к этому я от отца унаследовал».
Главным — хотя и тайным — пунктом утренней программы было посещение хирургического кабинета. Бабушка успокоила Роби Зингера, что в данный момент об обрезании речи не идет: просто они заглянут туда «für alle Felle». На самом деле она сама, постучавшись в дверь с табличкой «Старший врач д-р Кальдор», сама растерялась, не зная, как сформулировать свой вопрос: ведь речь шла о необычной для поликлиники операции гигиенического характера. Доктор, лысый старик в очках, пригласил Роби сесть и спросил, на что тот жалуется.
«Ни на что я не жалуюсь», — ответил Роби, краснея до корней волос, и посмотрел на бабушку. Та немного откашлялась и попыталась сформулировать щекотливую тему: «Дело в том, господин доктор, — и она беспокойно оглянулась на медсестру, — что мы евреи». — «Я тоже, — улыбнулся доктор, — но медицина тут бессильна». Бабушка шутку поняла, но не совсем правильно — и обрадованно заулыбалась. «Что вы, совсем наоборот, господин доктор… Мы вот насчет той операции… В общем, дело в том, — и она показала на Роби Зингера, — что он родился недоношенным. Ну, и еще там воздушные налеты. Vis major…» — «Понял, понял», — кивнул врач и попросил бабушку ненадолго оставить их. Бабушка поспешно вышла из кабинета.
«Тебя как зовут, сынок?» — спросил Кальдор. «Роберт Зингер», — ответил Роби, почувствовав вдруг доверие к доктору. «Ну что ж, Роберт, давай посмотрим, какие у нас дела. Спусти-ка штаны и ляг на кушетку».
Роби, ложась, испуганно покосился на инструменты, лежащие на металлическом лотке рядом с хирургом. Доктор Кальдор заметил его панический взгляд. «Нет-нет, сегодня резать не будем, — сказал он, — для этого тебя надо госпитализировать. Сегодня только осмотрим». Нагнувшись над Роби, он взял пальцами его член и стал двигать вниз-вверх крайнюю плоть. Роби Зингер с ужасом ощутил, что член начинает твердеть. «А этого ты не стыдись, сынок! — успокоил его врач в тот же момент. — Стыдно было бы, если бы он у тебя не вставал. Потому что девушкам это ой как не нравится!» Встретив подобное понимание, Роби Зингер почувствовал, что готов подвергнуться операции хоть сию же минуту, прямо здесь. Какое-то мгновение он даже размышлял, как было бы здорово, если бы он вышел из поликлиники уже обрезанным и в понедельник гордо сообщил об этом учителю Балле. Тут врач кончиком пальца коснулся непокрытой головки, и Роби Зингер с шумом втянул воздух сквозь зубы: было больно. «Ага, — пробормотал доктор Кальдор, — стало быть, чувствительность у нас повышенная?»
Он осторожно ощупал мошонку Роби Зингера, потом сказал: «Все у тебя в порядке, Роберт. Можешь одеваться». И, моя руки, спросил: «Когда бармицва-то?» — «В будущем году», — ответил Роби. «Не будь ты евреем, — сказал врач, — я и тогда посоветовал бы тебе сделать обрезание. А так — тем более». Потом оглянулся и осторожно, вполголоса, чтобы не слышала медсестра, четко произнося каждое слово, добавил: «Потому что очень уж мало нас остается».
Нет, Роби Зингер никогда не подумал бы, что профессора Надаи так сильно интересуют судьбы еврейского народа и искусствоведение. Самое странное заключалось в том, что о душевном здоровье Роби Зингера за все это время не было произнесено ни слова. А ведь Роби вполне был готов, услышав: «Как дела, сынок?» — изложить доктору запутанные, надрывающие сердце события минувших недель. Однако он лишь сказал: «Спасибо, ничего дела…»
Когда они, выйдя из хирургии, остановились у двери с табличкой «Психотерапевт», бабушка собиралась зайти туда всего на минутку, сказать профессору, что дочь ее на следующей неделе не придет: она проходит курс гипнотерапии. А в результате она оставалась в каморке у Надаи так долго, что Роби Зингер всерьез встревожился: не нашел ли психотерапевт и в душе у бабушки что-нибудь нехорошее. Потом дверь открылась, и старик профессор дружелюбно пригласил мальчика, чтобы, как он сказал, просто поболтать немного.
Бабушке пришлось ждать за дверью даже дольше, чем ему; но Роби Зингер теперь не тревожился: разговор увлек его почти так же, как разговоры с учителем Баллой. Правда, здесь говорил в основном он сам, профессор же ни разу не перебил его — не то что многие взрослые, которым не хватает терпения выслушать тебя до конца.
Роби Зингер рассказывал про отца, который был… вернее, стал бы знаменитым искусствоведом, если бы дожил до этого; про интернат, про героев-евреев, особенно про Бар-Кохбу, про Габора Блюма, про школу; а Надаи в основном молчал, но ему, по всему судя, рассказ Роби нравился; во всяком случае, он все время одобрительно кивал.
Потом спросил Роби, умеет ли тот рисовать: ведь многие искусствоведы и сами немного художники. К сожалению, сказал Роби, как раз с этим у него плохо: руки у него неловкие для рисования. «Не верю», — покачал головой профессор, потом достал лист бумаги, карандаш и попросил Роби нарисовать что-нибудь. И Роби стал рисовать то, что умел лучше всего: дом, даже целое трехэтажное здание, с дверью и окнами; дом этот был как их интернат. «Ты очень хорошо рисуешь», — одобрил профессор; потом велел изобразить яблоко и цветок, потом ему захотелось, чтобы Роби рисовал деревья; а под конец Роби, по указанию Надаи, рисовал только палочки. Правда, они были все одинаковые, Роби Зингеру же хотелось чем-нибудь порадовать профессора, и он стал понемногу украшать эти палочки. Одной он пририсовал сверху закорючку, другой — флаг, третью покрыл шипами. Профессор каждую палку хвалил отдельно и просил Роби объяснить, что каждый рисунок изображает. В конце концов он пожелал ему успехов на ниве искусствознания и поднялся, давая понять, что аудиенция завершена. Бабушку он опять пригласил войти на пару минут; о чем они там говорили, Роби Зингеру узнать не удалось. Ему пришлось долго упрашивать бабушку, пока та не сказала наконец, что Роби, по мнению Надаи, личность симпатичная и сенсибильная.
Что это значит, «сенсибильная», бабушка не могла точно объяснить. «Вряд ли что-нибудь плохое, — успокаивала она внука. — Ну, а если тебя, в двенадцать-то лет, называют личностью, это уже кое-что».
А вторая половина субботы была очень насыщенной: на них обрушилось целое нашествие гостей. Родственники и знакомые словно из какого-то тайного источника все сразу узнали, что теперь можно приходить спокойно, матери дома нет, так что не нужно все время иметь в виду ее чрезвычайную обидчивость. Правда, входя в большую комнату, каждый обязательно спрашивал: «А Эржике где?» И когда бабушка отвечала: «Курс гипнотерапии проходит, бедненькая моя», каждый жалел, что из-за этого не может встретиться с матерью Роби. Причем гости, к немалой радости Роби Зингера, приходили с гостинцами. Первые двое гостей, бабушкин свояк дядя Давид с женой, тетей Виолой, выступили со своим дежурным черносливом, при виде которого бабушка лукаво усмехнулась. Роби Зингер один понимал, что означает эта улыбка: с черносливом этим связана была история, достойная анекдота.