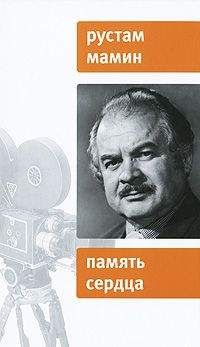«Ты прожил с ней уже вечность, но и она прожила с тобой столько же и ни днём меньше, − подливая в рюмку, утешал его бармен. — Ты пойми, вид гомо сапиенс состоит не из мужчин и женщин, а из одиноких и пар. Холостяки, вдовы, незамужние, разведённые, бобыли и девицы составляют первое семейство, а женатые и замужние — второе. И они отличаются гораздо сильнее, чем мужчины от женщин. — Сняв полотенце, бармен стал вытирать бокалы, проверяя их чистоту на свет. — Первые, как кошки, гуляют сами по себе, вторые — как сиамские близнецы. Потому что супруги с годами срастаются, меняясь местами, жена всё больше становится мужчиной, муж — женщиной. У этих семейств разная психология, разные болезни, разные жизнь и смерть. А принадлежность к ним определяется не брачным свидетельством, а природой. Оказаться не в своём семействе − всё равно, что не в своей тарелке. Горе такому! Хуже, чем кошке в собачьем царстве! А жена вернется, не бойся. Без тебя она отдыхает от мужа, с тобой — от себя».
И Архипу глубоко запали его слова. Он больше не хотел противиться природе. И не хотел ждать. Поэтому, когда Антип развёлся, как и предсказывал Нестор, сделал предложение своей бывшей невестке.
Слушая сестру, бормотавшую на своём языке, Антип узнавал ближе женскую натуру и раскаивался в своих жестоких розыгрышах, в бесцельно потраченном времени, никчёмной дружбе и случайной женитьбе, и всё ему казалось мелким и пустым.
− Куда я иду? − спросил он о. Мануила, второй раз переступив порог храма.
− К Богу, − не задумываясь, ответил тот, подбирая рясу. В тот день Антип долго бродил по набережной, глядя на ледяную рябь канала, несколько раз переходил горбатый мост, трогая морды каменных львов, пока не вспомнил, что проиграл деньги, которые отложил, чтобы купить Виолетте подарок на годовщину их свадьбы, а значит, едва он опустится в кресло, она начнёт кружиться с неумолимым жужжанием овода, целясь укусить больнее, и ему придётся с притворным бесстрастием выслушивать её, точно глухому, а потом, когда расплачется, утешать, изображая на лице сострадание, которого не будет и в помине, и, вернувшись, с порога залепил:
− Я ухожу!
− К дружкам? − поджала губы Виолетта.
− В семинарию.
Брякнув первое, что пришло в голову, Антип решил не изменять слову. И опять сбылось предсказание Нестора — провожая Антипа, о. Мануил перекрестил его на дорогу: «Променял женилку на кадилку!»
Сумасшествие заразно, но, передаваясь, проявляется каждый раз новыми симптомами. Приятель Антипа из седьмого подъезда жил с двумя тётками, проходившими свой век синими чулками, и составлял им вечерами компанию в преферанс. Мир мог перевернуться, первый подъезд целиком поменяться с восьмым, а птицы заговорить человеческим голосом, но игровой ритуал оставался неизменным. Ровно в семь часов, ни минутой раньше и ни секундой позже, раздавался голос одной из тёток, носившей парик брюнетки, в котором слышался детский страх получить отказ: «Может, распишем пульку?» Ответом ей было шарканье стульев, треск накрахмаленной скатерти, которой застилали стол, и шуршание бумаги, на которой чертили пульку. Силы игроков были приблизительно равны, и это придавало партиям особый интерес, даже Нестор с его предвидением не мог бы угадать, чем закончится схватка, боевые кличи которой раздавались, как стук топора, обрушившегося на гильотине.
− Семь пик, − заказывала тётка, крашеная в блондинку.
− Вистую, − откликался приятель Антипа, выхаживая с неизменной присказкой: − Под игрока — с семака! − А когда, случалось перебить чужую взятку, разводил руками под укоризненным взглядом: −Лучше друг без двух, чем сам без одной.
Был тут и свой флирт.
− Что-то ты ко мне глаз запускаешь, своих что ли нет? − обмахиваясь карточным веером, отваживала его «брюнетка».
− Так свои я всегда посмотреть успею, − кокетничал он с улыбкой прожжённого ловеласа. − А карты — к орденам!
− Вы не одни, − ревниво косилась крашеная блондинка. — Кто заказывает?
− Кто спрашивает! — отвечали ей хором, и, хлопнув себя по лбу, она ещё долго шевелила губами, пересчитывая в уме возможные взятки.
Казалось, время остановилось, и он так и состарится за картами, которые по ночам приходили в образе прекрасных дам — червовой, бубновой, пиковой и трефовой, так что, занимаясь любовью сразу с четырьмя, он блаженно улыбался до тех пор, пока не обнаруживал у себя на руках ловленный мизер, тянущий на длиннющий «паровоз», и, проснувшись от этого кошмара, долго не мог понять, кто его сдал — черневшей слева шифоньер, этажерка, на которой рядом с журналами сушились носки, или он сам. Целыми днями приятель Антипа болтался во дворе, от скуки целя камнями в жирных ворон, пил пиво в беседке со случайными знакомыми, рассуждая о мировых проблемах, а, когда стрелки приближались к заветному часу, вскакивал, точно занятой человек, громко объявляя: «Извините, меня ждут тётушки!». Эта привязка к жизни, этот якорь, сместивший на себя центр её тяжести, удерживал его на плаву, позволяя переносить все беды и невзгоды, которые обрушивались на дом, отсчитывая их по своему календарю: «Это когда я заказал «десятерную», а сел без «лапы»? Нет? А, помню, помню, я тогда ещё обложил всех вистами, как правительство налогами!» Раз Антип, уже бросивший играть во всё подряд и собиравшийся в духовную семинарию, подловил его во дворе и, удерживая за пуговицу на пиджаке, долго говорил о том, что дом лежит во зле, что его надо спасать, иначе из-за греховности жильцов придёт час, когда его разрушат, рисовал апокалипсические картины, от которых у приятеля Антипа, увлечённого его пафосом, не попадал зуб на зуб. Он переменился в лице, что случалось только в крайне редких, катастрофических моментах карточных баталий, и Антип понял, что его проповедь удалась. Решив, что настал подходящий момент, он поведал о своих планах поступать в семинарию, и, заглянув в глаза, рубанул: «Поедешь со мной?» «С радостью!» − читалось на лице приятеля Антипа, который уже открыл, было, рот. Но момент оказался не совсем удачным, переведя взгляд на часы, приятель закричал: «Боже, меня заждались тётушки!», и, вырвавшись, оставил в руке Антипа свою пуговицу. И Антип, стоя посреди двора как соляной столб, обнял своё одиночество и понял, что оно сверлит дыры даже в безумии.
Глядя на брата, Архип взялся за ум — поступил в институт, где прилежно учился, а потом устроился на престижную работу. Как и предсказывал Нестор, он женился на невестке — не откладывая в долгий ящик, в день её развода, и в его невестах Виолетта походила всего несколько часов. А через восемь месяцев она родила, так что осталось невыясненным, был ли это ребёнок Антипа, подаренный ей на прощанье, или недоношенный Архипа. «Вылитый отец! — щебетала роженица. — Вы с братом так похожи — в постели не различишь!» Но братья ревновали, не желая и в мыслях делить ребёнка.
− Постыдись, святоша, − увещевал Архип. — Мало у тебя будет духовных чад?
− На всё воля Божья, − закатывал глаза Антип. — А случившегося не вернуть.
И ребёнок, как с родимым пятном, рос с вопросом: кого звать отцом, а кого дядей? «Ветром надуло!» − разрешила его сомнения мать и, чтобы обоим не было обидно, дала сыну свою фамилию. Так в доме появился Артамон Кульчий, похожий больше не на ребёнка, а на постаревшего, захиревшего ангела. Скользкий, как обмылок, с гусиной от холода кожей, он выскочил из рук крестившего его о. Мануила, едва не утонув в купели. А крёстным отцом у него стал вездесущий Нестор. В отличие от Савелия Тяхта, пускавшего дела на самотёк, Нестор с упоением исполнял обязанности домоуправа, был в курсе всего происходящего, проникая своими телячьими глазами в суть вещей, выворачивал их наизнанку. Он лез в каждую щель и хлопотал об одиноком, всеми забытом Соломоне Рубинчике, которого вместо пяти мест перестали видеть и в одном, а когда выломали железную дверь, увидели совершенно голую, без мебели комнату, обклеенную вместо обоев денежными купюрами, с низкой люстрой, под которой в броуновском движении кружились мухи — они вились над головой хозяина, сидевшего на тугой, перевязанной бечёвкой стопе документов, канцелярских бумаг, выписок из нотариальной конторы, аккуратно распечатанных актов купли-продажи, дарственных, счетов фактуры, неоплаченных квитанций и просроченных договоров, а другая стопа, повыше, служила ему столом, на котором его мёртвые, скрюченные пальцы с вечным пером застыли над предсмертной запиской: «Будто контракт разорвал…»; и Нестор, ухватив за голову, волочил по полу окостеневшее старческое тело, которому пришлось подрезать сухожилия, чтобы втиснуть в гроб. Им двигало милосердие, как и в тот день, когда, не выдержав воя из тринадцатой квартиры, он задушил Еремея Гордюжу. Сначала он хотел просто выкрасть героин, чтобы, спустив в канализацию, избавить от белой отравы, но, толкнув дверь, которая предательски заскребла по неровному полу, увидел живой труп, и в нос ему ударил запах разлагавшейся листвы. Еремей Гордюжа корчился на стуле с бессмысленно вытаращенными глазами, в которых читалось, что он больше не поднимется над своим жалким существованием, и тогда Нестор накинул ему на шею резиновый жгут для стягивания вен. Он чувствовал себя Богом, которому дано право на эвтаназию, право вершить суд, освобождая от одиночества и безумия. И слушая упреки от умиравшей Изольды, он нисколько не раскаивался, зная, что лишь из сострадания погрузил Савелия Тяхта в бесконечную тьму. В чулане он зажёг свечи, которые лежали в коробке при входе, вместе с приветствием дал ощупать Савелию Тяхту своё лицо, чтобы тот хорошенько его разглядел, поставил чайник, достав пакетики с мятой. Савелий Тяхт оживился, вспоминая, как они делали уроки, гладил Нестора по голове, точно тот оставался ребёнком, говорил про его отцов, таких разных, но по прошествии лет казавшихся уже похожими, а в конце вздохнул: «Эх, была жизнь, да вся вышла». Нестор смотрел в его стеклянные неподвижные глаза и, плеснув себе кипятка, обжёгся, не найдя слов утешения. А Савелий Тяхт, прихлёбывая чай, жаловался на Изольду, предостерегал, чтобы не разменивал жизнь пятаками, оказавшись в старости под каблуком, и вдруг, уставившись, точно зрячий, заплакал: «Как же я устал, Изольдович!» Мята была свежей, и её аромат заглушил вкус снотворного, лошадиную дозу которого всыпал Нестор. Размешивая его в стакане, он так звякал ложкой, что, казалось, Савелий Тяхт непременно обо всём догадается, и потом, ворочаясь в постели долгими бессонными ночами, Нестор всё не мог решить, принимал ли из его рук лекарство безнадёжно больной ребёнок или пил цикуту умудрённый старик.