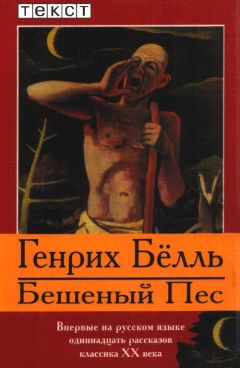Внезапно я почувствовал на своей щеке нежное прикосновение ее ресниц, понял, что она открыла глаза, и вспомнил, что я наг. Потом увидел совсем близко ее волосы, ее пробор и в его конце белизну подушки… Я словно бы очнулся от обморока, все приблизилось, как сквозь бинокль, которым можно подтянуть предметы к себе поближе, я полной грудью вдыхал запахи парка, лившиеся в комнату густыми волнами, вдыхал аромат ее кожи и слышал тихий рокот голосов внизу, на террасе, слышал звон бокалов и сочный жизнерадостный смех какой-то женщины, и мне пришло в голову, что те, кто сидит сейчас на этой террасе, знают о нас обоих и никто не скажет ни слова.
Все, что я сделал несколько минут спустя, я видел совершенно точно. Видел, как я оделся, поцеловал ее в лоб, тихонько вышел из задней двери дома и исчез, чтобы больше не возвращаться.
Но в ту секунду, когда я вспомнил, что на мне не было одежды, я увидел, как она встает на следующее утро и появляется внизу, но никто ни о чем ее не спрашивает, пока наконец однажды кто-нибудь не упомянет с улыбкой о куче писем, которые приходится таскать почтальонше, а позже я видел ее мысленно тысячи и миллионы раз — как она с письмами в руках взлетает вверх по лестнице, рывком открывает дверь, приваливается к ней спиной и дрожащими пальцами вскрывает конверт.
И, выходя из задней двери дома, из этой ржавой, скрипучей, маленькой железной дверцы, я уже знал, что никогда не буду испытывать страха перед смертью, зато всегда — перед жизнью…
Я выпустил из пальцев скомканную записку, почувствовав, что руки стали влажными от пота, потом судорожно повернул ключ в замке и распахнул дверь.
Я быстро прошел по ковру, торопливо миновал кровать, по-прежнему стоявшую справа от окна, и выглянул через открытое окно в парк: свет падал в комнату сквозь узкие щели в закрытых ставнях, и казалось, что вся комната разрезана узкими полосками теней на отдельные ломти. Все, что я видел, было реальностью. И та картина все еще висела на стене, все так же слишком светлая и живая для этих темно-зеленых обоев. Полосатым было и лицо женщины на картине, и комодик, и кровать, краем глаза я заметил и большую стеклянную горку, набитую всяким старьем, а между кроватью и дверью еще и письменный стол. Под подоконником было темно, туда падало только слабое отражение полос света и тени, и я догадался по легкому запаху горелого, что там, наверное, стояла плитка. Но все это я заметил как бы вскользь. Мне хотелось сначала осмотреть комнату, распахнуть окно, а потом спокойно освоиться здесь, но почти сразу я почувствовал что-то странное, нематериальное и неуловимое, напомнившее мне о том, что эта комната не моя. И что я вряд ли смогу вступить во владение ею, как и ее комнатой. Что-то чуждое, незнакомое, исполнившее меня чувством, похожим на ревность, которой я раньше не знал. И я понял, что дело не в том, сумею ли я вновь вступить во владение ею, а в том, что буду вынужден за нее бороться.
Шагнув за порог, я остановился на миг и подумал, не стоит ли включить свет и поискать в комнате то, что, возможно, смогло бы объяснить, откуда взялось это чуждое и ужасное ощущение, но тут же понял, что не смогу найти здесь никаких доказательств, а кроме того, не имею права искать их, даже если бы они здесь и были…
Я медленно вышел из комнаты и запер за собой дверь.
Из соседней комнаты женский и мужской голоса теперь доносились громче и яснее, некоторые слова я даже расслышал, но они отскакивали от меня, как пули, утратившие свою убойную силу.
Где-то в глубине дома открылась и закрылась дверь, и на какой-то миг часть скудно освещенного коридора наполнилась серым светом, потом открылись и другие двери, тут же вновь закрылись, кто-то спустился по деревянным ступенькам, и до меня донесся отчетливый запах рыбы и лука.
Я прислонился к дверному косяку и только теперь понял, что все это значит: двадцать пять лет билось ее сердце, но я только полминуты чувствовал это биение, двадцать пять лет в ее голове рождались миллионы и миллиарды мыслей, а мне была известна лишь малая толика их. Я-то верил, что она всем сердцем принадлежит мне, навсегда и навеки, слишком твердо верил, настолько слишком, что даже боялся этого, боялся вернуться к ней, но теперь понял, что вера эта была бессмысленной и глупой. Я не знал о ней ничего, что можно было бы считать принадлежавшим мне, с таким же успехом можно зачерпнуть ведро морской воды и заявить, что море принадлежит тебе. Я даже не знал, что она любит из еды, не знал, как она жила и на что. Я попытался себе представить, как она едет в трамвае и смотрит из окна на людей, лавки, животных, дома, развалины, цветы и деревья, и каждая мысль, которая у нее появляется при этом, а их у нее появлялось, наверное, с десяток в минуту, — каждая такая мысль была особым миром, и в ее голове жили миллионы таких миров, воспоминания, мечты, а мне была известна настолько ничтожно малая толика всего этого, что я почувствовал себя жалким и несчастным, когда стоял, прислонившись к двери в темном коридоре, все сильнее заполнявшемся запахом рыбы и лука, к которому теперь добавился и запах крепкого уксуса.
Ревность бушевала во мне, как дикий зверь, пробравшийся исподтишка и теперь пожиравший изнутри…
О, как бы мне хотелось, чтобы она безраздельно принадлежала мне, как принадлежала тогда, хоть я и знал, что светлая тропинка ее пробора уходит в бесконечность и я не смогу пройти ее до конца. Я ненавидел ремешок ее туфли, который попытался себе представить, коричневый, немного обтрепанный ремешок с комочком засохшей грязи. Ей всегда была свойственна некоторая трогательная неряшливость.
Когда я сделал первый шаг в ее комнату, эта отвратительная и неуловимая чуждость всех предметов и всех мыслей о ней встала стеной передо мной, и я отпрянул назад, хотя эта черная стена была тонкой, но прочной и непреодолимой для меня и вздымалась высоко в небо, уходя в бесконечность…
Я глубоко вздохнул и ощутил ту же противную вонь, к которой теперь добавился еще и запах дыма, — так глубоко вздохнул, что почувствовал приступ дурноты, и вдруг вспомнил, что голоден и смертельно устал…
Еще я почувствовал, что мое лицо как-то сразу осунулось, глаза заболели, а в глазницах засела точащая, сосущая, сверлящая боль, которая часто донимала меня под конец бессонной ночи. Я осторожно опять сунул ключ в замочную скважину, прошел в комнату, закрыл за собой дверь и медленно снял вещевой мешок, висевший за спиной на длинном ремне. Потом нагнулся, нащупал ковер слева у двери и медленно лег на спину. Оказалось, что лежать на полу, вытянув ноги и подложив вещмешок под голову, как я делал множество раз, очень приятно.
Похоже, время шло к восьми. И хотя я знал, что ее сердце билось для меня спокойно и любовно, так любовно, как не будет биться никакое другое сердце, все же где-то в глубине души чувствовал, что теперь она не будет мне принадлежать и ее придется уступить чему-то, чего я никогда не ожидал, чему-то, что нельзя было назвать и охватывало ее всю — от потрепанного ремешка туфли до облаков, на которые она иногда глядела, и в голове ее рождались мысли, ни одной из которых я не знал. Я потеряю ее, отдам ее миру, тому миру, в котором так легко думать о смерти и так трудно о жизни…
На двери и части стены еще раз появилось увеличенное изображение окна с его темными и светлыми полосами — смутное, расплывчатое изображение с нечеткими линиями, светлые полосы были мерцающими, а темные — размытыми, и я заметил, что большое распятие, которое раньше висело внизу, в вестибюле, теперь висит здесь.
Внезапно меня вновь начала давить чуждость этой комнаты, не принадлежавшей мне, и удивительно приятный запах туалетного мыла и платьев с крошечной примесью сигаретного дыма. Я опять вскочил, схватил вещмешок и открыл дверь. Поворачивая ключ в замке, я думал о том, кому могла предназначаться записка на двери. Но мысль эта не разбудила во мне ревности. Нет, я не мог ревниво относиться к людям. Все люди были одинаковы, и все они были одиноки, а я бешено ревновал их к жизни и к мыслям, которые их наполняли…
Одна из дверей, выходивших в коридор, была теперь открыта, и я сразу почуял, что именно за этой дверью рыба, лук и уксус превращались в еду. Запахи переполнили небольшую комнату и теплыми отвратительными облаками поплыли по коридору; я услышал, как сырую картошку высыпали на сковороду с горячим жиром и как шипенье жира мало-помалу сменилось тихим урчаньем. Потом из двери выплыли тучи темно-серого дыма, узкими и полупрозрачными полосами вытянувшиеся в сторону лестничной клетки. Дом теперь был полон шума, то и дело где-то хлопали двери.
Я медленно подошел к открытой двери и постоял у стены, наблюдая за толстой низенькой пожилой женщиной; левую руку она сунула в вырез платья, а правой медленно переворачивала картошку на сковороде. На неопрятном столе высилась огромная фарфоровая миска, в которой голубоватые куски рыбы плавали в уксусе среди пожелтевших кружочков лука. У женщины, стоявшей у плиты, лицо было темное, почти багровое, и меня даже затошнило при мысли, что рука ее лежала на голой груди. Окошко в этой комнате было небольшое — осколок стекла в узенькой деревянной раме, которая, судя по всему, никогда не открывалась. На кухонном шкафу облезлого красноватого цвета, где стояли хлебный ящик и кухонные весы, я заметил будильник и увидел, что было без двадцати семь. Я медленно направился к лестничной клетке и стал спускаться. Белая лепнина на потолке и стенах выглядела теперь как большие грязные пятна, поцарапанные и исписанные разными словами.