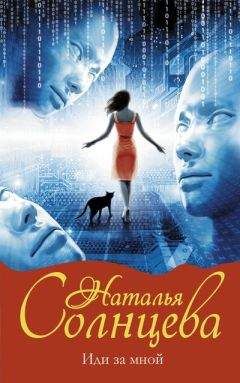— Плевать мне на ваши уколы — я люблю хмель живой.
Он шастал по мужским и женским палатам бесконечно, орал на врачей и устраивал веселые перебранки с няньками. По вечерам, когда врачи уходили домой, он, раздобыв ключ, по-тихому забирался к ним в ординаторскую и приглашал к себе травмированных спортсменок, чтобы без волнений и окриков спокойно играть там в карты. Спортсмены и спортсменки лежали этажом ниже. У них были сравнительно легкие травмы. Они много смеялись и много ели, и Сереге они пришлись по душе. Именно Серега устроил у них на этаже вечером соревнование — кто первый пробежит весь коридор туда и обратно на костылях. Те, кто был с одним костылем, к соревнованию не допускались.
Однажды вечером после ужина Серега, как обычно, пошел в ординаторскую. Кто-то из лежачих больных хотел глянуть свои рентгеновские снимки хотя бы мельком, и Серега пообещал помочь, — Серега долго рылся в шкафах, но не находил. Он попытался посмотреть и в верхнем отделении шкафа. Он влез на стремянку и грохнулся оттуда наотмашь. Гипс треснул. Серега нет. Но встать самостоятельно он не мог и всю ночь провалялся там на полу, а утром Серегу вышибли из травматического царства за нарушение дисциплины. «У, зануда, — замахнулся он костылем на лечащего врача. — Выписывай быстрее. Надоела ваша каша…»
А жизнь идет. Минуты яркие, а затем, наоборот, минуты пообычнее, потусклее.
И этих-то, которые потусклее, больше; переливающиеся одна в одну, цепко тянутся они, обычные и ординарные: эпический век, за минутой минута. И нет-нет замечаешь за собой связанную со всей этой эпичностью черточку характера. Черту.
Дома, скажем. Вечером. Пришли друзья. И рассказывает кто-то о ком-то. «Мерзавец, — говорит он о ком-то. — Нет, ты только послушай, каков мерзавец!» И рассказывает каков. А ты его слушаешь, конечно, киваешь, но почему-то вдруг начинаешь того человека защищать: «А может, он не мерзавец, может, он не умышленно?» — «Как то есть не умышленно?»
— А так, — поясняешь и возражаешь ты уже громче, — может, этот человек хотел как лучше, однако его обстоятельства…— За нажимным словом следует еще слово, тоже нажимное, и уже оказывается, что, сидя за столом, мы спорим. И глаза у обоих горят, и выражение лиц какое-то странное. Не праздничное. И жена, постукивающим шагом спешно входя, интересуется, чего это вы друг друга дерьмом зовете, — и ведь дети слышат.
Дети — это конечно. Тут уж чего, закуриваем и примолкаем оба — сидим и молчим; друг на друга некоторое время не смотрим… Собеседник скис и, по-видимому, слегка раскаивается: думает, что вот ведь придирчив и резок и даже, пожалуй, груб с ним был, со мной то есть. У меня тоже отлив. Вижу, что тоже был и придирчив и резок. Более того: вспоминаю, что ведь и правда, о чем бы мой приятель ни рассказывал, я вроде как корректировал его и непременно подправлял, нет-нет и подправлял ему кисточкой, как бы добавляя некий мазок. Оно, может быть, и жизненней и достоверней становилось от этого мазка, как от всякого дополнительного мнения, но ведь приятель-то мой не эскизик и не картинку рисовать хотел, а хотел свое что-то высказать. Свое и наболевшее. А теперь оба сидим и покуриваем: оба не настаиваем. И разговор продолжаем уже ровный и чисто дружеский: зарплата, женщины, дела.
Но вот через неделю или две мы уже сидим дома у него. У приятеля. И тоже повод какой-то был, межсемейный, — сидим мы, разговор туда-сюда, однако же я чувствую (да и по глазам вижу), что сейчас он преподнесет мне некую заготовку в продолжение прошлого разговора, который остался и дозревал в наших головах сам собой. А вокруг застолье… И он, более или менее со мной уединившись или просто придвинувшись за общим столом, начинает: «Я, — говорит (и смеется), — ошибочку в твоих извилинах нашел». — «Ну?» — «Человек ведь как-никак должен отражать цельность мира. Пусть в какой-то мере. Верно?» — «Допустим». — «А ты, — говорит, — не отражаешь цельность. Изъян я в тебе нашел». — «Обидеть меня хочешь?» — «Не отшучивайся, — говорит он. — В мире, как ни верти, есть ведь и обвинитель, и судья, и защита. Так?» — «Ну допустим». — «Ага! Значит, и в каждом человеке должно быть то же самое. А вот в тебе этого триединства нет!»
Он мало-помалу горячится и уже настаивает, что слишком я защитничек и слишком уж охотно оправдываю — нет во мне триединства. И все, кто меж рюмками слушал, улыбаются. Вон, мол, с каким грешком, триединства не имеет. А ведь взрослый человек. Ай-ай-ай. Шутят они, конечно, а все же. И сижу я почесываю затылок: да, мол, таким вот, увы, оказался, — и вроде бы думаю, что и как на сказанное ответить.
На самом же деле никакого обдумывания во мне нет, никакого экспромта не будет, — потому что я ведь тоже заранее думал. Тоже, как выражаются шахматисты, домашняя заготовка. «Верно, — говорю я, в меру почесав затылок. — Но вот ведь мы с тобой сидим и болтаем. Так?» — «Так». — «Вдвоем болтаем?» — «Вдвоем». — «И, болтая, мы ведь тоже в эту минуту вдвоем отражаем цельность мира и это самое триединство, так?» — «Ну пусть». — «И значит, когда ты кого-то выставляешь подонком, я соответственно выдаю слова в его защиту, — именно в силу триединства…» — Ответ состоялся. Однако же мой приятель тоже не лыком шит и тут же находит ответ ответу. А затем я, так сказать, ответ ответу ответа. И начинается чистейшая схоластика. Это как у ребенка, кубик на кубик и еще на кубик.
Гости — все прочие — посматривают на меня с невыразимой тоской. На меня, а не на моего приятеля: он-то хозяин, простительно, а чего этот-то, защитничек, на себя много берет? Тоже ведь гость. Наконец все кричат, чтоб мы замолчали, а жены, чтоб мы заткнулись. А тут, кстати, и кубики наши уже рушатся сами собой, как и положено им рушиться.
Или вот, казалось бы, другой случай: встретил я человека — встретил случайно на пустой автобусной остановке. Он мой знакомый. Более того: когда-то начальником моим был и давил меня безбожно, давил тяжко и не без некоторой даже фантазии. Не важно в эту минуту, где, не важно, как и почему, а важно, что давил, — на автобусной остановке спустя много лет вспоминается лишь это, остальное побоку. И вот он уже не начальник мне: «Здрастьте». — «Здрасьте», — вырвавшееся и обоюдное. И стоим, ждем, и не уйти, не разойтись нам в разные, к примеру, стороны, потому что разойтись — это уж очень нелогично и смешно и нелепо; а автобуса все нет и нет… И вижу: испуган он, побаивается. Вспомнил, конечно, и ведь тоже человек. И я уже как бы спешу навстречу ему, на помощь: «Лето, говорю, какое жаркое. Вы заметили, какое жаркое в этом году лето?» И он, конечно, тоже начинает словами и даже жестами рук спешить. Жене, говорит, путевку. И детям тоже путевки. Никак, говорит, достать не могу, а ведь жара, жара…
И так он опечален, и так он морщится, и так он убит, по той причине, что никак этих вот необходимых путевок достать не может, что тут уж все ясно и понятно. Заговорил он было, что еще и радикулит его мучает, — но осекся, замолк; радикулит уж как-то слишком нацелен на мое снисхождение и на мое сочувствие: слишком уж ясно, что весь он сейчас мягкий, бери его руками. И тогда он о путевках, опять о путевках. Ну никак он их достать не может, а ведь жена и дети…
И странная жалость постепенно проникает в меня. И ведь не прощаю я его, не христианничаю, — я точно знаю, что не прощаю его сейчас и не простил тогда, однако и жалость и прощение есть: жалость изнутри. Выглядит внешне она так: вроде как не ему я сейчас на автобусной остановке сочувствую, не ему конкретно… А всем нам. Такие, мол, вот мы люди, и что поделать… «Да, говорю, с путевками погано. Вот еще через объединенный профком попробуйте», — и вот ведь говорю и себя как бы слышу со стороны, и самое удивительное, что мне совестно это говорить вслух ему, и лоб мокрый, и весь я вдруг вспотел (он-то уж давно вспотел), и все же я эти слова говорю. Вслух. Ему. И наконец-то выполз из-за дома автобус, — подходит…
И это ж, конечно, смешно объявлять хотя бы и шепотом, хотя бы и самому себе, что ты не судья. Это ж декларация, а главное, неправда. Не вся правда. То есть за эту самую несудейскую черточку точишь ведь себя и точишь, а затем вдруг вновь думаешь: а может быть, прав я в своем… И вновь ломаешь голову, и вновь не знаешь, как оно будет жестче и как гуманнее, — вроде бы и понял и запомнил, но и сквозь суд свой, и сквозь недолгую агрессивность все-то слышишь эту трогательную и мягкую ноту. Вроде как в себе носишь: не судья.
Савелий Грушков, старея, стал неожиданно для многих злым: это злой, не озлобленный, а именно холодно и желчно злой старик. Такую вот шутку сыграла с ним старость. У него и причуды, вполне соответствующие его злобе и его желчи. Он, к примеру, толкует и разъясняет людям «Божественную комедию», и это в маленьком поселке, где одна-единственная библиотека (книги на дом не выдаются) и где считают, что Данте — это главный инженер соседней фабрики, смещенный с должности за постройку вне очереди кооперативной квартиры для своей рыженькой секретарши. «Что делаешь, Савелий?» А он листает Данте не спеша и не спеша поднимает на тебя злые глаза: «Я толкую» — так он заявляет. Это его собственное выражение. Оно бы и ничего и даже хорошо, — в конце концов человек спину гнул, вкалывал, почему бы не заняться теперь, на пенсии, чем хочешь — человек ведь свободен в выборе. И если Савелий Грушков, старичок, выбрал толковать не что-нибудь, а «Божественную комедию», в поселке, где козы чешутся о забор детского сада и где все еще не перестроена мрачная, уральская, заводских времен баня, то, стало быть, так надо. Превращения в стариков удивительны. Книгочием Савелий Грушков никогда не был, и вообще с книжкой в руках до этих — стариковских — дней его ни разу не видели.