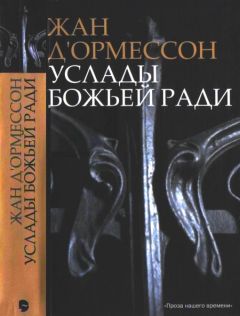Все это — то есть ничего — происходило летом в Плесси-ле-Водрёе. Но стоило ей вернуться в Париж, как тетя Габриэль прибирала к рукам все движущие силы истории. Она на лету схватывала бразды правления и решительно утверждалась между доктором Фрейдом и «Быком на крыше», между Дали и дадаизмом, между каким-нибудь негром-пианистом и каким-нибудь сюрреалистом. После трех или четырех месяцев благочестивой неподвижности возле каменного стола и фисгармонии настоятеля Мушу тетушка Габриэль чувствовала бурное желание перевернуть мир. Она окуналась с головой в какие-то хлопоты и подрывную деятельность, направленную на ниспровержение тронов, на ступенях которых мы сидели. В жаркую погоду она замедляла ход истории, а в холодное время года ускоряла его. На улице Варенн не оставалось ничего от песнопений, звучавших в Плесси-ле-Водрёе. Тетя Габриэль заменяла их взрывчаткой.
Несколько бомб, начиненных этой взрывчаткой и направленных против наших летних занятий, оставили след в истории идей. Громче всего нашумели три знаменитых фильма, эхо которых, к счастью ослабленное, дошло в конце концов и до нас, в Плесси-ле-Водрёй. Слава Богу, что нигде не сообщалось, где впервые были показаны эти фильмы. Как вы догадываетесь, это произошло именно на улице Варенн, именно там впервые явили себя миру «Андалузский пес» и «Золотой век» Буньюэля, а несколькими годами позже, накануне новой катастрофы, на которые так богат этот век, «Кровь поэта» Жана Кокто. Тетя Габриэль никогда не упускала возможности развертывать наступление своего авангарда сразу на трех фронтах: все еще нового искусства, революционной эстетики и расшатывания таких идолов прошлого, как здравый смысл, устоявшийся порядок вещей и религия, — то есть всего того, что было нам так дорого в эпоху нашего величия, уединения и обскурантизма. Фисгармония летних месяцев превращалась в рояль, в адское фортепьяно, из которого появлялись скалящие зубы, лихие иезуиты со связанными руками, оставившие далеко позади, причем с полувековым разрывом, демонстрации церковной моды в фильме Феллини «Рим». Там были и окровавленные статуи, и руки с ползающими по ним красными муравьями, и расширенные зрачки, и кошмарные и одновременно смехотворные процессии — весь наш мир там предали осмеянию, всколыхнули, перевернули. Улица Варенн отрицала и убивала Плесси-ле-Водрёй.
Так вот, в конце концов мы разделились и ополчились на самих себя. Очень трудно удерживать вопреки истории знамя строгой морали, когда та не связана ни с деятельностью, ни с властью. Пока мы царили в этом мире, наши добродетели были рецептами победы. Нас часто тяготили эти добродетели, мы ими не очень дорожили и обращались с ними безо всякого почтения. Но при этом осознавали, что с ними связано наше величие. С тех пор как наш вес в обществе уменьшился, они не утратили своего значения, но стали бесполезными для нас. Верность, ответственность, традиция уже не гарантировали успех, а вели прямиком к поражению. И мы возлюбили поражение, поскольку любили добродетели, лежавшие в основе нашего величия. И вот история, эта проститутка, падкая на деньги, вечно смотрящая в рот власти и готовая служить всем, кто добивается успеха, опять стала с нами заигрывать, чтобы затащить нас в дома свиданий, где правят бал талант, случай, воображение. И как мы ни пытались, краснея от стыда, объяснять ей, что никогда там не бывали, что нам там нечего делать, она только смеялась над нами, над нашей скромностью, над отсутствием у нас любопытства, шептала на ушко, что есть хороший шанс порезвиться вместе часок-другой. Раньше история так не разговаривала с нами; раньше она внушала нам, что нас ждут великие, вечные дела, а вовсе не забавы. Наверное, нам не следовало внимать ее соблазнительным речам. Но, чтобы сказать истории «нет» и отойти в сторону, надо было быть святыми. С тетушкой Габриэль мы дали себя соблазнить. В верности есть что-то от ограниченности. Мы еще не были настолько глупыми, чтобы оставаться совершенно чистенькими. И потом история ведь вообще на протяжении долгих веков представлялась нам чем-то вроде сплошной череды любовных наслаждений, и мы спали с ней. Как тут было не порадоваться нам, когда мы опять обнаружили ее в своей постели? Мы ее знали, мы ее любили, мы ее столько ласкали. У нас была власть над ней. Ничто не расстраивало нас так сильно, как сознание, что она погуливает с другими. И мы возвращали ее к себе, идя на незначительные уступки и провоцируя мелкие скандальчики. Возможно, мы все еще надеялись тогда вновь стать сильнее всех остальных. Но теперь, когда она, вся перепачканная выделениями прогресса, стала отдаваться кому попало, ночуя в сточных канавах и на помойках, нам пришлось осознать, что она уже не та, что была раньше. Голубые глаза, большие и наивные, чистые чувства, былые верность и покорность… Она приноровилась к новым нравам, к новому климату, изменение которого так расстраивало моего деда. Она стала алчной, изворотливой и циничной, искала свою выгоду в компании тех, кого дед с презрительной миной называл демагогами, продавалась любому, кто побольше заплатит, отдавалась негодяям, и, чтобы вскружить ей голову, достаточно было чем-нибудь ее удивить. Нас покинула принцесса, не разговаривавшая раньше ни с кем, кроме нас, а тут мы увидели девку, с хохотом бросавшуюся на шею первому встречному. Вот что мы думали об изменившей нам истории. И вот, пожалуйста! Представители семейства Реми-Мишо так любили успех, что в погоне за элегантностью, за развлечениями, за иллюзией свободомыслия в своем глупейшем стремлении выглядеть умными и талантливыми они заставляли нас опять ухаживать за историей. До этого мы решили ее презирать и больше не знаться с ней. Мы выгнали ее из Плесси-ле-Водрёя. А она влезла к нам через окна дома на улице Варенн, омываемая волнами черного света и прерывистой музыки.
К нам вернулась не та великая история, которую изображали Рюд и Делакруа, Гюго и Жорес, история с открытой пышной грудью, с прекрасным лицом мадонны, с гордо откинутой головой, с ружьем в руке, история в разорванной, запыленной одежде, история свободы и народной борьбы. Ту историю мы знали. Мы относились к ней враждебно, но понимали ее. Несмотря на плохих пастырей, о которых часто говорил мой дед, между простонародьем и нами существовали тайные связи. На этот раз дела обстояли еще хуже. На улице Варенн поселилась модная история. В ней большую роль играли деньги, были замешаны толпы эстетов и подозрительных молодых людей, это была в наших глазах дьявольская история, высмеивающая всё и вся. Она была против нас не потому, что вышла из народа, к которому мы были ближе, чем художники и музыканты, чем интеллигенты и щеголи, а потому, что она выступала против традиции. Именно на улице Варенн, еще до Первой мировой войны или во время оной, Марсель Дюшан водрузил велосипедное колесо на кухонную табуретку и написал на гребешке лишенные смысла слова. Именно в доме на улице Варенн он пририсовал усы к Джоконде Леонардо да Винчи, которая являлась для нас, наряду с Пьетой Микеланджело, Никой Самофракийской, Венерой Милосской и афинским Акрополем, символом всего того, чем мы были обязаны прошлому. Именно с улицы Варенн отправил он в Нью-Йорк, на Салон Независимых свой писсуар. Мы, конечно, почти никого не знали по ту сторону Атлантики, да и сам новый мир, со всеми его банками и его манией свободы, был нам безразличен и даже почти подозрителен. И тем не менее писсуар! Даже американцы, хотя они там почти все демократы и республиканцы, такого не заслуживали. Именно на чердаке дома на улице Варенн, превращенном тетей Габриэль в мастерскую, какой-то русский нарисовал черный квадрат на белом фоне и продал его за безумные деньги. Если бы отголоски этих подвигов дошли до нас в Плесси-ле-Водрёй, нас больше всего огорчило бы то, что мы потерпели поражение на своей собственной территории. Мы всегда были противниками демократической веры в труд и в заслуги. «Слава Богу, — говорил почти серьезно один из моих прадедов, — мы еще принадлежим к числу тех в Европе, для кого усилия, труд и личные заслуги ничего не значат». А тут безумная мистификация пошла еще дальше нас. Как можно было говорить после подобных мерзостей о нашем традиционном хорошем вкусе, о нашем культе прошлого и предков, о нашем уговоре с Господом Богом, о нашей непреклонности и безыдейности. Ведь именно в одном из туалетов дома на улице Варенн на протяжении нескольких недель ручкой для спуска воды служило янсенистское распятие, оставшееся от моей бабушки. Только вмешательство дядюшки Поля положило конец этому безобразию. Старые газеты, наклеенные на холст, осколки разбитого зеркала, сор из помоек, подметки сношенных башмаков, обрывки шнурков, куски проволоки, тряпки, обертки от сыра, трамвайные билеты, петарды, сирены, рев слонов, вместо поэзии бессмысленное, безумное нерифмованное бормотание, новый мир без веры, без закона рождался в старом особняке, носящем наше имя. Он был детищем незнакомцев, которых звали Рембо и Тцара, Зигмунд Фрейд, который был самым что ни на есть настоящим евреем, и Лотреамон, что ни на есть поддельный граф. У этих людей не было ни родословной, ни прошлого, ни Бога. Единственным их правилом стало разрушение всех правил. Мой дед никогда бы не принял их в своем доме. Ни талант, ни даже гениальность не заставили бы его изменить свое мнение. Скорее наоборот. Этот мир был против нас, ибо он весь состоял из интеллекта и духа разрушения. А мы были на стороне глупости и сохранения того, что существует. Нет, усилие, труд, личные заслуги ценились на улице Варенн не больше, чем в Плесси-ле Водрёе. А вот талант и ум сверкали там тысячами огней. Тетушка Габриэль, которая желала возродить наше имя, тихо угасавшее в почитании прошлого, решила, что для того, чтобы оно засверкало тысячами огней, его надо сжигать в кострах грядущего. Неслыханный парадокс: наш род выживал и сохранял свой ранг, подобно сказочной птице феникс, хотя слегка и общипанной, через самоубийство и отступничество.