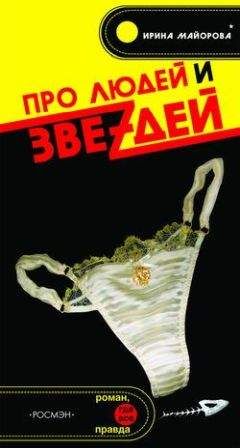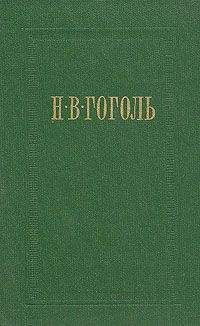– Вот так-то, друг мой, – подвел итог мучительно-обстоятельному рассказу о своей жизни Грант Нерсессович. – Разве мог я подумать, что здесь, под землей, буду счастлив так, как никогда не был там! – Он указал пальцем наверх.
«Юродивый! – раздраженно подумал Кривцов. – Они что, все здесь такие? Из-за какой-то блажной идеи разругался с единственной дочерью, хотел все у нее отнять… Чего он, не архитектор, мог путного спроектировать? Нашел бы каких-нибудь шабашников, те начали бы строить, и чудо-собор сам развалился бы на куски, да еще и люди бы пострадали». Но Нерсессыч был ему нужен, и, не дав раздражению вырваться наружу, Кривцов светским тоном спросил:
– А как сейчас поживает ваша дочь?
Сиявшее детской радостью лицо старого армянина вмиг посерело и повисло большой грустной каплей: вместе с уголками губ вниз опустились и рыхлые пористые щеки.
– Ниночка? Она хорошо живет. Вышла замуж, родила ребенка. Сейчас хлопочет, чтобы меня признали покойником, – тогда спустя полгода она сможет вступить в права наследства.
– А откуда вы все это знаете?
– Ну, милый человек, я ж не в лесу живу! Здесь получить информацию о происходящем на земле порой даже проще, чем обитая там…
– Поня-атно, – протянул Макс, хотя на самом деле ничегошеньки ему было не понятно.
Оба помолчали. Симонян сидел, уставившись взглядом в облупленную столешницу, а Кривцов – глядя в его поросшую буйным седым волосом маковку. В душе Макса шевельнулось нечто похожее на жалость.
– Но как же так, Грант Нерсессович? Ведь на Кавказе, в Средней Азии, в общем, у народов бывших южных республик не принято так относиться к родителям. Там стариков почитают, заботятся, чуть не на руках носят. А на тех, кто забывает или предает родителей, несмываемый позор падает.
– А у славян что? Принято? – Симонян будто даже обиделся. – У кого это вообще принято? У древних японцев, которые таскали матерей и отцов на гору подыхать с голоду? Ни одна религия, ни одна национальная мораль, ни одно человеческое сердце, если оно живое, способное чувствовать, а не булыжник, такого не позволяет и не прощает. А что касается южных, не южных народов… каждый рождает и бессребреников, отдающих последнюю рубаху нищему на углу, и стяжателей, ради денег готовых на все… Огласки – да, у нас боятся больше. Но это в маленьких селениях, в городках, где все друг друга знают. А жизнь в мегаполисе поощряет самые темные стороны души. Каждый живет в своей скорлупе, творит что хочет. И огласки можно не бояться. Свои не скажут, чужие не увидят. Да и вообще кому, например, в Москве интересно, как ладят между собой Грант и Ниночка Симонян? Точнее, ладили… Хотя, думаю, когда я ушел, дочка, обзванивая знакомых, сильно плакала. А ее все утешали, думая, что это она обо мне переживает…
Симонян помолчал, делая вид, будто пристально рассматривает свои узловатые, короткопалые руки. Макс его не тревожил, понимая: пауза понадобилась Нерсессычу, чтобы справиться с подступившими слезами.
– Ладно, хватит об этом! – Симонян резко поднял голову и ладонью с растопыренными пальцами зачесал назад свесившиеся на лоб длинные седые пряди. – Хочешь, я все, что видел тогда на перегоне, на бумаге запишу? Если у тебя есть кто надежный на земле, пусть попробует отнести в милицию. А лучше пускай сначала тех женщин найдет, поговорит с ними… Сдается мне, они тоже видели того ирода. Он, когда из тоннеля выскочил, лицом к ним стоял. Хотя вряд ли лицо рассмотрели – расстояние большое, но фигуру-то могли. Ты ложись спать – можешь на моем топчанчике, а я бумагу для тебя напишу, а потом еще пару часиков поработаю. Так что неудобств ты мне не доставишь.
Макс взглянул на часы:
– О, уже третий час ночи!
– И что? А какая тут под землей разница: день, ночь? Я укладываюсь, когда глаза слезиться начинают или рука немеет.
Макс лег на топчанчик Нерсессыча, укрылся видавшим виды ватным одеялом, так и эдак повертел, сбивая в один угол перо хлипкой подушки. Наконец устроился. Но уснуть так и не смог. Сначала судорожно перебирал варианты, как быстрее отправить на землю бумагу, которую строчит старый армянин, потом вдруг понял, что задыхается. Повернувшись на спину, несколько минут лежал, хватая разреженный воздух открытым ртом и с силой проталкивая его в легкие. Ощущение удушья не проходило. Он вспомнил, как месяца три назад заруливал в гости к приятелю-валеологу, служившему в подмосковном правительственном санатории. В кабинете у того стоял аппарат для измерения объема легких. Специалист по здоровому образу жизни предложил гостю дунуть, а потом долго ругался: «Чуть оборудование не сломал! Еще немного – и поршень бы вылетел!» Перепугался насмерть. А когда немного успокоился, за рюмкой коньяка посоветовал Кривцову никогда не таскаться в горы, потому что там с легкими Геркулеса делать нечего.
Макс поднялся с топчанчика и, приблизившись к столу, за которым работал Грант Нерсессович, сказал:
– Душно тут у вас. Пойду пройдусь.
Старик, продолжая строчить, кивнул. Кривцов пошарил глазами в поисках своего фонаря. Тот лежал рядом с закопченным медным чайником. Макс приподнял металлическую посудину – она была полна воды. Но ни стакана, ни кружки рядом не наблюдалось. Припав к медному носику, он сделал несколько больших глотков и оглянулся на хозяина кельи. Тот продолжал писать, склонив набок голову и высунув кончик языка. Лицо Макса скривила брезгливая гримаса: «Точно – юродивый!»
Выйдя из каморки армянина, Кривцов оказался в кромешной темноте. Зажег фонарь и, присев у стены на корточки, развернул карты: сначала основную, запаянную в полиэтилен, потом – на кальке. Наложил одну на другую. Ближайший выход на землю был совсем рядом, в Армянском переулке.
«Твою мать! – про себя выругался Кривцов. – Армянин же сказал, что его через Армянский под землю спускали! Потому в память и врезалось: армянин – через Армянский. А меня заставили три километра тащиться, сволочи. Конспираторы гребаные!»
Злость (такой вот редкий случай) оказалась в облегчение. Шагая по галерее, а потом по коридору с низким, сантиметров на десять не достававшим до его макушки сводом, Кривцов уже не задыхался. Отметив это, от намерения подняться наверх Макс все же не отказался. Мало ли, вдруг от новообретенных друзей придется спасаться бегством? Митрич долго не протянет, а с его смертью сойдет на нет и гарантия безопасности. Колян вон, хоть и разговоры разговаривает, встретить-проводить согласился, а дай ему волю… Макс несколько раз перехватывал его взгляд – опасливый, вприщур. Как у затаившегося зверя или пса-волкодава, только и ждущего, когда хозяин бросит поводок и скомандует: «Фас!»
Время от времени Кривцов, непривычный к хождению с фонариком, спотыкался о коробки из-под соков и пивные банки. Потом-то он даже конфетные обертки и скомканные сигаретные пачки на полу разглядел. Похоже, этим ходом подземные жители пользовались постоянно. Разбросанные всюду приметы цивилизации сыграли свою роль – передвигаться по подземному коридору Максу было совсем не страшно. Он даже попинал пустую жестянку, обойдя невидимых полузащитника и защитника и запузырив гол в воображаемые ворота.
Ведущая наверх лестница была гораздо короче той, по которой он спускался на Патриарших. Закрывавшую вход в шахту решетку тоже удалось сдвинуть с места без особого напряга. Макс выбрался на поверхность и полной грудью вдохнул прокисший от сырости безморозный воздух. Фонарь решил с собой не тащить – спрятал в углу двора, за раздолбанной коробкой из-под телевизора.
Выйдя на Маросейку, Кривцов двинулся к памятнику героям Плевны. Ему захотелось побродить по безлюдному наверняка – в четвертом-то часу ночи! – скверу, посидеть на лавочке. На углу Маросейки и Лубянского проезда он замедлил шаг и, оглядевшись, хотел уже было шагнуть на пустынную проезжую часть, как вдруг услышал шум двигателя – со стороны Славянской площади на большой скорости мчалась машина.
«Менты!» – мелькнуло в голове Макса, и он рванул в сторону Лубянки. Шум двигателя нарастал. Он был совсем рядом, в каких-то двадцати метрах, когда в ряду прилепленных друг к другу домов обнаружилась арка. Макс юркнул в чрево освещенного одинокой лампочкой двора и заметался, ища укрытие. В углу стоял большой контейнер для строительного мусора. Словно участник соревнований по бегу с препятствиями, Кривцов перемахнул через лавочку, потом через лежащую на боку бетонную «дуру» – опору фонарного столба – и, оказавшись за контейнером, присел на корточки. Сцепив зубы и сжав под подбородком кулаки, ждал: вот сейчас по двору зашарят мощные фонари, раздадутся голоса: «Уйти он не мог! Рассредоточьтесь по периметру! Брать живым!» Но прошла минута, две, пять… Двор продолжал оставаться темным и безмолвным. Кривцов осторожно выглянул из-за контейнера. Никого. С шумом выпустив из легких воздух, он сел на землю и прислонился спиной к железному боку мусорки. В голове пронеслось: «С чего я взял, что это менты? Дебил! Вот, наверное, в той машине веселились, когда я, как заяц, драпал!»