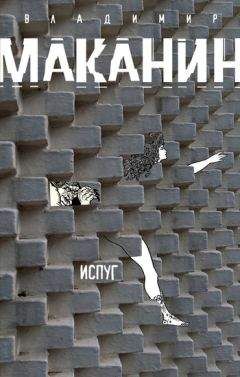И вдруг крутанувшийся на полу с табуретом вместе кентавр Дибыкин кричит на весь класс. Он громко кричит. Он понял суть глубже всех нас:
– Главное – не наступить на флейту!
– Петр Петрович… Ракурс! – это опять Недоплёсов.
Я откликаюсь не сразу.
– Петр Петрович!
– Я меняю, меняю… Я щурю глаз.
– И что дальше?
Врач Недоплёсов мыслью обгоняет меня. С легкой иронией он договаривает за меня мою фразу:
– …И дальше нимфа начинает преследовать вас сама. Верно?
Да пусть их и дальше иронизируют… Меня не затягивает и не увлекает быстрая смена их точек зрения. Рынок!.. Не участвую! Не состою… Кругом, мол, обменники, базар, все они спятили, а я вот нет – я только щурю глаз. То правый – то левый. Единственная перемена, которой я подвержен.
Но уже и Дибыкин оставил в покое свой цок-цокающий табурет и подключился к меняющимся местами Клюшкину и школьному учителю Чижову. Теперь их трое. Зачем им я?.. Вот уж менялы!.. Всем троим в кайф. Вперед, старикашки! Вперед, выдохшееся воображение! Если наехать глазом еще ближе, еще стремительнее и круче, то ты и вовсе хозяин этой притихшей оливковой рощи, этой сонной травы – этой спящей молоденькой женщины. Прикрытой чем?.. А ничем – лишь узким куском ткани, легким и вьющимся меж ее пухлых белых ног. Меж ляжек, если уж вправду.
Они меняются местами, все ускоряясь. Клюшкин меняется с Чижовым, учитель Чижов, неугомонный, – с Дибыкой!.. Дибыка – с Клюшкиным – а Клюшкин опять с Чижовым!.. Нон-стоп… Если взглянуть сверху – картинка смен еще динамичнее. Словно бы кто-то громадный (кто-то незримый) играет старичками в три наперстка.
Однако и новообретенная точка зрения приносит сатирмэнам, как видно, недолгую радость. Эти взаимные перескоки с табурета на табурет (с теплого на теплый) участились. Замелькали мои старички. Замельтешили. Туда-сюда… Сюда-туда… Вот только оказавшийся при смене мест у окна (там в щель просунулся утренний лучик) каждый раз нет-нет и задерживается… Засиделся… Но его гонят, ему дают понять: пора, пора!..
А громадный незримый наперсточник еще и прибавил в скорости. Как стали торопливы – под его руками – все трое. Как возбуждены. Едва сменив ракурс, хотят менять вновь. (Хорошо, где нас нет!)
– Петр Петрович, – шепотом окликает меня Чижов.
Подскочил и тронул за плечо – мол, и с тобой, давай-давай, сменяемся табуретами, иди на мое место к окну!
Я качаю головой – не хочу.
А он, настырный, еще и торопит – иди, иди, Петр Петрович, здесь тебе тускло. И холодом тянет. Дует даже.
– Ничуть мне не дует.
– Дует, дует! Тебе дует! – настойчиво давит на мою психику старый школьный учитель.
Экая глупость. Всю жизнь (и всякий это знает) нам тянет и дует как раз от окна, а не от стены. Нелепость такую мог выдать, мог брякнуть Дибыкин… И Клюшкин мог… Но никак не школьный учитель.
Настырный Чижов едва не силой поднимает меня с табурета. Вот прицепился! Я подчиняюсь чужой воле и, так и быть, иду к окну менять ракурс. Плюхаюсь на Чижиков табурет и смотрю на экран – ну и что тут нового?.. Та же самая, вечно прекрасная и вечно голая наяда… Та же прилизанная лужайка. Те же кудрявые оливы в ненашенских рощах… Но вот от нечего делать (и от нечего смотреть) я глянул в просвет нашего зашторенного пространства – в окно. Мама родная!
В здании, что рядом, на первом этаже – у самого окна – спала молодая девчонка. Живьем!.. Спящая, полуприкрытая, с пухлыми щечками и настолько живьем, что на ее подбородке застыла крохотная слюнка. Выползшая из уголка ее губ… Полускатившаяся… Плечо и одна грудь (в обход легкого одеяла) отлично просматривались. Но особенно ярко, броско, дразняще сияли ее белые коленки. Чудо!
Это здание (в три этажа) по замыслу было скорее всего реабилитационным отделением. За большими немытыми окнами там можно было видеть шведскую стенку, тренажеры… Даже баскетбольный щит с кольцом. Все это пока что пылилось и ржавело. Говорили, некто купил… Говорили, вот-вот… Однако здание пустовало. А девчонка в пустом доме – как ночной сторож, на всякий случай. От нас, если считать, всего-то в пятнадцати – двадцати шагах. Спящее чудо!.. То-то к «оконной позиции» прямо с табуретом скакал Дибыкин! То-то каждый из старикашек спешил, рвался туда. То-то эти слюнявые так лихорадочно менялись!.. Сейчас и меня отсюда попросят. Мол, засиделся ты, Петр Петрович!
Обычное дело наших дней: молодая девчонка сторожит ночами мертвое здание. Пригляд. За гроши, разумеется… Вдруг я понимаю, что руками, пальцами, чуть ли не ногтями я вцепился в табурет под собой… пальцы до боли! Не уйду сразу! (Перевожу глаза с окна на демонстрационный экран – с нимфы на нимфу.) Меня охватывает легкая паника. Я здесь не вечный. Вот-вот прогонят отсюда.
Я вовсе не обольщен этим живым телом: девчонка хорошенькая разве что по молодости. Наверняка простуженная (по погоде)… Слегка сопливая (со сна). И честно сказать, нимфа живая – проигрывала нимфе-картинке. Но она, живая, ударила, выстрелила мне по мозгам. Она разбудила. Только теперь я был там… В оливковой роще. Я туда влетел… На скорости!.. – и только теперь нимфа на экране ожила вполне. В настоящую живопись надо врываться. Именно так. Врываться, а не входить с замирающим сердцем. В живопись надо прыгать – прыгать с трамплина. (Как прыгают на лыжах. На вытянутых, чуть раскоряченных, шатких и летящих по воздуху лыжах.)
От дубля жизни и живописи стеснило сердце. Этой жажды не объяснить. Я сомлел… А спящая чуть повернулась. Тоже знает. (Меняет ракурс.) И одеялко и простынка чуть сползли… О Господи… Вот оно как. У заспанной бедняжки… У нее… У этой девчонки не было стопы. На левой ноге.
По счастью, углом одеяла были прикрыты ее пах и живот. Классика позы. И так нестерпимо ярко и вызывающе сверкали эти выставленные белые коленки.
Мысль включилась – я искал глазами костыли. Либо палку с опорной ручкой… Нет… Ничего…
Но внимательный глаз нашел. Глаз наткнулся… Под раскладушкой, на которой покалеченная девчонка спала… Протез съемный. На ночь она его с ноги снимает. Дешевый… Грубый, жуткий ботинок. Шнуровка… и скрепы.
– Без протеза ей легче. Ей, конечно, легче… Спать легче, – сострадая, бубнил я неизвестно кому. (Самому себе. Застигнутому врасплох.)
А со спины ко мне уже подобрался Чижов. Уже торопил (посмотрел?.. освобождай, освобождай место!).
– Не туда смотрите, – заметил он мне.
Мол, стопа стопой – а смотреть на девчонкины ноги надо чуть повыше. Сказка в изгибе… Красота… Увидели?.. Сказка в изгибе колен.
– Не понял… Что? – переспросил я. – Что вы сказали?
– Не я… Гумилев, – проворчал старый школьный учитель, досадуя на тотальное невежество масс. – Сказал поэт Гумилев. Сказка в изгибе колен.
Июльской ночью поселок тих – все спят. За день воздухом надышались. А все же в запас на каждой даче открыта веранда, пусть летний воздух ломится к нам в постель. Мы спим, а воздух сам собой к нам!.. Коротко наше лето.
На скамейке, где чета старых берез, сидят полуночники – старики Петр Петрович и Петр Иваныч. Тоже чета… Уже всё переговорено. Уже молчат… Петр Петрович докурил сигарету и поднял голову к небу, напрягая интеллект. Смотрит. Припоминает созвездья.
Петр Иваныч звёзды не знает. (Зато он чувствительнее.) Заскучав, он слегка прихрапывает. Сидя всхрапнуть – это сладко!.. Формально стариков связывает сейчас бутылка портвейна. Портвешок в поселке совсем неплох. (И недорог.) Также и в портвешке лучше понимает чувствительный Петр Иваныч. И откупоривает бутылку Петр Иваныч просто великолепно. В скорости ему нет здесь равных.
При таком стремительном откупоривании интеллектуал Петр Петрович всегда волнуется. Петр Петрович (мысленно) очень хочет успеть досчитать до трех-четырех. Но где там!.. Бутылка открыта… Он не успел досчитать и до двух.
Сейчас бутылка пока что на земле, возле ноги посапывающего Петра Иваныча. Портвешок в прохладной ночной траве.
Так что не пить – а только его, спящего, подразнить. Пользуясь полутьмой, Петр Петрович протянул (ме-е-е-дленно) руку к горлышку бутылки.
(Петр Петрович – это я. Я ме-е-е-дленно протянул руку.)
– Но-но! – подхватился Петр Иваныч.
И дрема с него тотчас слетела.
– Ладно… Пошли, пошли!
Петр Иваныч недолюбливает сидеть на этой скамейке. Слишком близко к нашей речушке. (Сыроват воздух.) И слишком близко к звездам. За счет открытости места. (Вон они. Куда ни глянь!.. Твои звезды. От них уже некуда деться!) Да и вообще всем звездам на свете мой приятель Петр Иваныч предпочитает экран телевизора. А если не экран, если на природе, то пусть взамен экрана – чье-нибудь окно… Окно с нехитрой занавеской… Приманивает!
– А?
– Я говорю: чужое окно – это как телевизор. Как сериал. Если посматривать туда каждый вечер.
Петр Иваныч хохотнул:
– Если бы еще кнопкой переключать. Окно за окном, а? Уж мы бы с тобой знали, на каком окошке сосредоточиться!!!