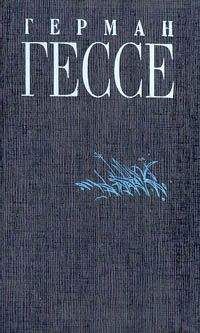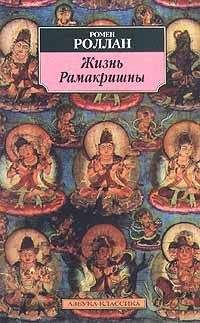Чаще всего в это время упоминалось имя даровитого и острого на язык «спартанца». А тому, помимо личной славы, важно было прежде всего немного оживить скучную компанию, при помощи веселых затей отвлечься от однообразных занятий. Прозвали его, почему-то Дунстаном; он довольно оригинальным образом умел устраивать сенсации и преуспел в этом.
Однажды утром, когда семинаристы направились в умывалку, они обнаружили на дверях бумажку, на которой под заголовком «Шесть эпиграмм из Спарты» в саркастических двустишиях высмеивались чем-либо примечательные ученики, их слабости, любимые проделки, дружеские привязанности. Парочка Гибенрат — Гейльнер тоже получила свою долю. Великое волнение поднялось в маленьком государстве. Все столпились перед дверью, как перед театральным подъездом, семинаристы жужжали, толкались, перешептывались, словно улей перед отлетом королевы.
На следующее утро вся дверь оказалась облепленной эпиграммами, Ксениями, опровержениями и подтверждениями, новыми нападками, однако сам. затейник проявил Достаточно ума и как автор уже не выступил. Цели своей — подбросить искру в копну сена — он достиг и теперь только втихомолку потирал руки. Почти все ученики несколько дней подряд состязались в ксениях, бродили по коридорам с задумчивым видом, силясь найти нужную рифму, и, пожалуй, один только Луциус, не унывая, продолжал свои занятия В конце концов кто-то из учителей обратил внимание на странное поведение своих воспитанников и запретил столь возбуждающую нервы игру.
Но хитрый Дунстан не почивал на лаврах, а подготовил тем временем свой главный удар. Таковым оказался первый номер газеты, отпечатанной крохотным форматом на стеклографе. Материал к ней Дунстан подбирал уже несколько недель. Называлась она «Дикобраз», и в основном носила сатирический характер. Гвоздем первого номера был диалог между автором Книги Иисуса Навина и маульброннским семинаристом.
Листок имел потрясающий успех, и Дунстан, лицом и повадками походивший теперь на страшно занятого редактора и издателя, стал пользоваться в монастыре примерно такой же сомнительной славой, как в свое время великолепный Аретино[7] в венецианской республике.
Всеобщее удивление вызвало то, что и Гейльнер, оказывается, принимал живейшее участие в редактировании листка и вместе с Дунстаном придал ему сатирическое звучание. Разумеется ни острословия, ни яда ему для этого занимать не приходилось. Недели четыре крохотный листок занимал умы всех семинаристов.
Ганс Гибенрат не вмешивался в новое увлечение друга, а сам принять участие не имел ни охоты, ни способностей. Вначале он даже не заметил, что Гейльнер почти все вечера стал проводить в «Спарте», ибо с некоторых пор его занимало нечто другое. Днем он бродил вялый и рассеянный, занятия продвигались туго, да он и не проявлял к ним никакого интереса. Однажды на уроке во время разбора Ливия с ним произошло нечто странное.
Профессор вызвал его переводить. Ганс не встал с места.
— Что это значит? Почему вы не встаете? — рассердился педагог.
Ганс не двинулся с места. Он сидел выпрямившись наклонив голову и прикрыв глаза. Вызов почти пробудил его от грез, и все же голос учителя доносился откуда-то издалека. Ганс чувствовал, что сосед сильно толкает его в бок. Но все это его как будто не касалось. Другие лица окружали его, другие руки трогали, и внимал он совсем иным голосам — близким, тихим и глубоким. Они не про износили слов, а лишь ласково журчали, словно родник.
А сколько глаз было устремлено на него — таких чужих, проникновенных, огромных и сверкающих. Быть может, то были глаза римской толпы, о которой он только что читал у Ливия, а может быть, и глаза незнакомых людей, которые пригрезились ему или. которых он когда-то давно видел на картинах.
— Гибенрат! — взревел профессор. — Вы что, спите? Ганс медленно открыл глаза, удивленно уставился на учителя и покачал головой.
— Вы спали! Или, быть может, вы мне скажете, на какой строке мы остановились? Ну!
Ганс пальцем указал в книге место. Он-то Прекрасно знал, где они остановились.
— Может быть, вы теперь изволите встать? — спросил профессор с издевкой.
И Ганс встал.
— Да чем вы в конце концов заняты? Посмотрите на меня!
Ганс посмотрел на профессора. Однако тому взгляд его не понравился, и он удивленно покачал головой. — Вам дурно, Гибенрат?
— Нет, господин профессор.
— Сядьте. После уроков прошу вас зайти ко мне в кабинет.
Ганс сел и наклонился над Ливией. Все было как наяву, он все понимал, но и в то же время его внутренний взор не в силах был оторваться от целой толпы странных образов. Теперь они медленно удалялись, неотступно глядя на него своими горящими глазами, пока в конце концов где-то далеко-далеко не растворились в туманной дымке. Голоса учителя, семинаристов, бубнивших перевод! текста Ливия, и весь незначительный шум класса, приближаясь, делались все громче и громче и скоро снова зазвучали так же явственно и четко, как обычно. Парты, кафедра, доска — все было снова на своем месте, на стене висел огромный деревянный циркуль и угольник, вокруг сидели ученики, и многие из них с наглым любопытством таращили на него глаза.
Ганс страшно испугался. «После уроков прошу вас зайти ко мне в кабинет!» — сказали ему. Боже мой, что же случилось?
Когда прозвенел звонок, профессор подозвал его и провел через толпу глазеющих учеников.
— Скажите мне теперь, что, собственно, с вами произошло? Надеюсь, вы не спали?
— Нет.
— Почему же вы не поднялись, когда я вас вызвал?
— Не знаю.
— Быть может, вы не слышали меня? Вы хорошо слышите?
— Хорошо. Я вас слышал.
— И все же не встали? И потом у вас был такой странный взгляд. О чем вы думали?
— Ни о чем. Я уже хотел встать.
— И почему же вы все-таки не встали? Стало быть, вы плохо себя чувствовали?
— Нет, я „не думаю. Я не знаю, что со мной было.
— А голова у вас болела?
— Нет.
— Хорошо, можете идти.
Еще до обеда его снова оторвали от занятий и вызвали в спальню, где господин эфор и окружной врач уже ожидали его. Ганса простукали, расспросили, но ничего определенного не выявили. Врач добродушно посмеивался и заявил, что все это пустяки.
— Нервы, нервы господин эфор, — хихикал он, преходящие приступы слабости, подобие легкого обморока. Необходимо проследить, чтобы молодой человек ежедневно бывал на воздухе. А против головной боли я пропишу ему капли.
С того дня Ганса обязали гулять в течение часа после обеда. Он, разумеется ничего против не имел. Хуже было то, что эфор категорически запретил Гейдьнеру сопровождать Ганса во время этих прогулок. Герман неистовствовал, ругался, однако вынужден был покориться. Вот Гансу и пришлось гулять в одиночестве, и, по правде сказать, он был даже немного рад этому. Весна как раз вступала в свои права. Пологие холмы мягких, красивых очертаний покрылись первой, еще прозрачной зеленью, деревья вместо зимней, графически четкой сетки ветвей теперь играли юной листвой, и на весь необозримый ландшафт будто набегала животрепещущая изумрудная волна.
Раньше, когда Ганс еще бегал в прогимназию, он иначе переживал весну, с куда большим волнением и любопытством, ни воспринимал ее больше в деталях. Он следил за прилетом птиц, сначала одних, потом других, за тем, какое дерево зацветет первым, а едва наступал май, он пропадал на рыбалке. Теперь он уже не старался распознавать птиц или определять кусты по почкам. Он замечал только, как все наливается весенними соками, расцветает яркими красками, вдыхал запахи едва распустившихся листочков, мягкий, словно бродящий воздух и, не переставая удивляться, гулял по полям, Однако очень скоро он уставал, ему постоянно хотелось прилечь, уснуть, и почти все время перед глазами маячило что-то другое, а не то, что окружало его в действительности. Что это было, Он и сам не понимал, да и не раздумывал над этим. Он погружался в какие-то светлые, нежные, необыкновенные грезы. Какие-то картины, аллеи незнакомых деревьев вырастали перед ним, и ничего при этом не происходило. Просто картины чтобы любоваться ими, однако и это простое лицезрение было и переживанием. Он будто удалялся в чужие края, к другим людям, странствовал по чужой Земле, ступал по мягкой и мшистой почве, дышал каким-то чужим воздухом необычайной легкости, пронизанным тонким, пряным ароматом. Вместо подобных картин порой являлось и чувство смутное, жаркое и волнующее, будто чья-то легкая, рука скользила по его телу.