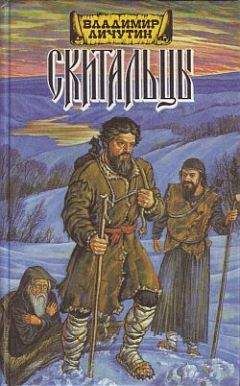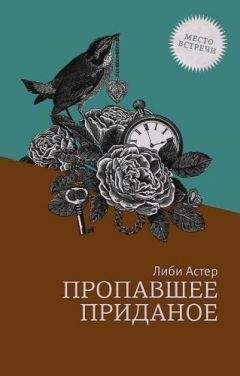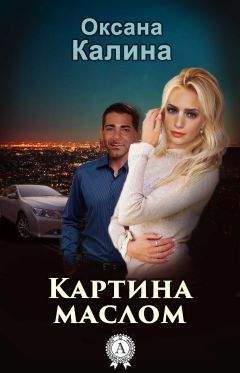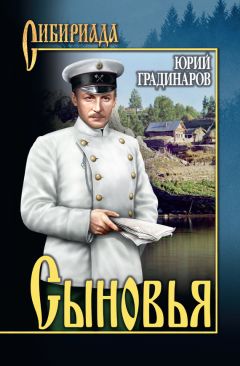Прислушивалась Павла, что за спиной Петра Афанасьич творит, и сердце обмирало. Вот на реку сбродил, фырчал там, будто тюлень, за версту слыхать, потом вернулся, встал подле, но молчит: последнее время все будто чужой. Ну и слава Богу, что чужой, доколе грешить. Смешно началось, дак пусть хоть не срамно кончится. Набаловался мужик, насытился, своя-то баба теперь скуснее будет.
А она-то, а она-то, срамина, волосье седое на голове, глянуть страшно на экую образину, а еще чужих мужиков улещает, – кляла себя Павла, мешала мутовкой кулеш, а сердце постанывало от неясной обиды: почто Петра Афанасьич и словом-то с нею не перемолвится.
– Петра Афанасьич, каково спалось? – не выдержала, спросила. Тыльной стороной руки отерла мокрый лоб, лицо едва обжарилось на солнце, и над носом вперебор вылупились мелкие веснушки, бровки льняные выцвели, распушились над радостными глазами. Глядит Павла на Петру Афанасьича, и люб он ей, ой как люб, и не видит она его выпученных кошачьих глаз, ни безбрового обгорелого лица, ни его круглого, необхватного брюха, едва прикрытого рубахой.
– А снилось, будто всю ночь с бабой на лавке катался...
– Ой ли, ой ли, а с кем это? – ревниво спросила и в сторонку от варницы ступила, словно бы зазывала мужика. А утро желтое, все высвеченное солнцем, комар скатился в болотины, и на холмушке легко дышится, вольно под легким шелоником.
– Вот тебе и ой ли, – вспыхнули зеленые Петрины глаза, и любопытный интерес пробудился в них. Подумывалось: заманивает баба, ишь разохотилась как, небось жжет все – и водой не залить. «Тут-то бы мне поостеречься надо, в такое-то время все беды следом льнут. А, один грех замаливать...» Пошел к копнушке, уже не глядя на бабу, запустил руку по самый локоть, ощутил шершавый жар, клок длинного грубого сена вытянул, нюхнул жадно широким растяпистым носом.
– Посмотри-ко сенцо-то, – крикнул Павле.
Та приставила ладонь к глазам, чтобы разглядеть мужика.
– Гли-ко, гли-ко, сенцо-то...
– Да не время глядеть-то, Петра Афанасьич, – все поняла Павла, а еще упиралась. – Кулеш подгорит, и девки вот-вот встанут, – договорила уже шепотом, уговаривая себя опомниться.
– Да ты подойди только, эка ты, – уже сердился Петра, нетерпеливо переминаясь за высокой копнушкой, из-за которой торчала его большая редковолосая голова.
– Иду-иду, вот пристал, – ворчливо откликнулась Павла, со страхом оглядываясь на полог. Ведь чуяла сердцем, какое сенцо идет смотреть, казнила себя, а ноги будто сами собой несли ее к копнушке...
– Охо-хо-нюшки, – еще простонала Павла, досматривая минувшее утро, но тут усталость взяла свое, и, не слыша себя, ушла в сон баба. По другую сторону, будто ломовая лошадь, тяжело всхрапнул Петра Афанасьич, тоненько, по-синичьи, засмеялась Тайка, а в туго натянутый верх полога упрямо барабанил дождь, и особенно глубоко, до маеты в костях спалось людям в такие ночи.
И только Яшка не спал и редко мигал, рассматривая в сумерках материно размякшее лицо. Он слышал, как пришел Петра Афанасьевич, как чесал обширное свое брюхо, как спрашивала его мать, и все ожидал, что вот-вот мамка встанет и выйдет из полога, и потому быстренько смекал, как ему тогда поступить. Сейчас, вспоминая увиденное утром, он маялся душой, уже смутно догадываясь, что между мамкой и Петрой есть что-то запретное, и ему, недоростку, это знать не велено. Еще тем несчастным утром он, заспанный, не в силах продрать глаза, выскочил за полог по нужде, глянул кругом, нет ли возле матери, куда-то девалась; и в пологе пусто, одни девки разметались, храпят, коровы, из ружья не пробудишь. Только пристыл за пологом, вдруг услыхал за спиной шорохи и вскрики, догадался, что шумят за ближней копешкой, и тут же на плохое подумал, не с мамкой ли что случилось, – может, давят ее. Стремглав кинулся за копешку, на ходу надергивая портки, и сразу в глаза бросилась взлохмаченная материна голова, а поверху Петра Чикин, ихний хозяин, и он вроде бы мамку душит. Яшка с разбегу вскочил на Петрину спину, схватил за шиворот, дернул на себя и закричал: «Не бей мамку, ирод, не бей мамку».
А дальше Яшка совсем смутно помнил: кажется, Петра ущучил его своей клешней, больно прижал к себе, мать, с растерянными и перепуганными глазами, лежала, откинувшись на копешку, и дрожала, не в силах сказать слова. «Ах ты, сколотыш», – хрипло шептал Петра, и Яшка вплотную увидал его зеленые страшные глаза. Извиваясь лягушонком на толстом Петрином колене, он умудрился прокусить мужику палец, и пока Петра ревел от боли, Яшка бросился прочь куда глаза глядят, ближе к речке, а может, и утонуть там. В такой растерянности он мчался к воде, слыша сзади глухой настигающий топот, и тут на глаза попали лошади... Но Донька помешал. Не Донькин бы голос, Яшка ни за что бы не свалился с гнедухи, его тут и подпорой не сшибить. Он бы показал этому брюхану, как мамку бить. Но почему же она не плакала, не звала Яшку на помощь? Наверное, рот зажимал ей, иначе бы мамка кричала.
Пристально вгляделся в материно лицо, показалось, что оно улыбалось во сне. «Мамка, почему у всех есть тятьки, а наш пропал?» – вдруг захотелось спросить Яшке, ведь ему так тяжело жить без отца. И он приготовился растолкать мать и посреди ночи устроить допрос, но Павла неожиданно отпустила парнишку и мягко засмеялась. Яшка никогда еще не слыхал, чтобы так тепло смеялась его мать, она обычно молчала, или плакала, или устало грозилась, и потому мальчишка даже поднялся на колени, чтобы получше разглядеть ее лицо. Но в пологе стало совсем темно, мерно бренчал дождь, с луга доносило сыростью, и Яшка ничего необыкновенною не разглядел в смутно белеющем лице матери. Мальчишка поежился, укладываясь потеплее в оленьей полости, но из памяти не уходило минувшее утро, и, не в силах успокоиться, он грозился в темноту: «Я те покажу, как мамку бить. Дай-ко только вырасти».
Но упорно не спалось, и он высвободился из окутки, тихо скользнул в самый угол, отвернул низ полога, где был тайный лаз, и, вглядываясь в серый дождливый полумрак, подумал: «Убежать, што ли? Вот реву-то будет». Он еще протянул ладошку навстречу дождю, мокрая трава скользнула по руке. Яшка вздрогнул и утянул руку обратно. Потом, нюхая набухшую влагой холстину, полежал подле, но с воли доносило сыростью, и оттого вскоре стало зябко и тоскливо. И мальчишка залег обратно в одеяла, прижался плотнее к мамке, просунув ей под мышку руку, быстро согрелся от потного родного тепла и, слушая вполуха балаганные шорохи, тревожно уснул.
Пробудился Яшка позже всех – растолкала мать: «Вставай, засоня, выть проспишь». Яшка приподнял голову, сразу посмотрел в дальний угол, подозрительно поглядывая за Петрой, но тот уже сидел, поджав калачом ноги, пластал у груди каравай и не обращал внимания на разбойника. Яшка сразу успокоился, сердито сказал матери:
– Могла бы и раньше поднять.
– Да жалко ведь. Так сладко спал...
– А сена-то кто ставить будет? – взросло спросил Яшка, оглядывая девок.
Евстолья, плосколицая, с мышиной косичкой по спине, въедливо хихикнула: «Работничек-то, девки, гли-ко». А Петра Афанасьевич только глянул исподлобья в Яшкину сторону, хмыкнул, но промолчал.
– Какие сегодня сена. Уж сиди давай, – откликнулась Павла. – Дожжа-то навалило, осподи. Необоримая сила. – И она быстро выскочила из полога, притащила котел с вытью. Петра довольно оглядел Павлу: словно шьет баба, минутки без дела не усидит.
– Ты-то давай садись. Не служанка, бат, да и мы не господа. Могли бы девки сшевельнуть задницу, – неожиданно сказал Петра, и девки все, от Евстольи до Тайки, разом повернулись к тятьке и глянули на него любопытно... Экое чудо, экое чудо, такого с тятькой не случалось, он и с мамкой-то по-людски не говорил. И Павла смутилась, по-девичьи закраснела лицом.
– Вы-то ешьте, а я уж после. Много ли мне нать.
– Я что велел? – прикрикнул несердито Петра, и Павла, радуясь всем сердцем этой ласковости, подчинилась просьбе.
– Ну ладно, разве что с крайчику примостюсь.
Петра первый погрузил ложку в житнюю кашу, все покрестили лбы и тоже потянулись к котлу, но старались мясо не забирать, на то будет своя команда. Да и Петра зорко присматривал за дочерними ложками и при случае сразу охаживал по лбу, да так, что слезы выскакивали из глаз дробью, и после долго не хотелось мяса. И словно играя над хозяином, Яшка дерзко заискал ложкой в кулеше и подобрал там кусище и медленно поволок к себе. Девки запнулись. Тайка тоненько пискнула, все взглянули на тятьку... Ой, достанется нынче Яшке, ну и поделом ему, охальнику, пусть не перечит. Девкам проходу не дает, все одни проказы. Тайка даже зажмурилась, словно своим лбом чуяла, как звонко прилипнет сейчас ложка к Яшкиной голове. Но Петра Афанасьич поперхнулся, сурово глянул в Яшкину сторону, сначала хотел, видно, окрикнуть, но сдержался. И Яшка победно оглядел девок и еще плотнее умостился на согнутых ногах, но, странное дело, только мяса ему сразу расхотелось, да и не ахти какое мясо – летошняя солонина с душком, едва зубы берут. Все смолчали, за вытью грех языком молоть, но в Яшку нынче словно бес шальной вселился. И сказал он Петре Афанасьичу разбойно, кругля непросветные глаза: