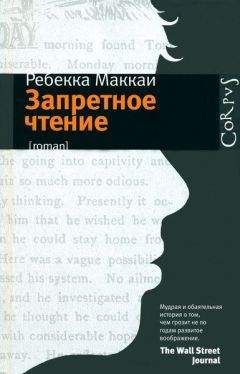— Хорошо.
Я в последний раз подумала, что надо все-таки развернуться и поехать в Ганнибал, а Иэну просто ничего об этом не говорить. Если бы я по-настоящему захотела, мне бы не составило труда отвлечь его от указателей, и к ночи мы были бы в городе, я могла бы высадить его где-нибудь на углу и немедленно уехать обратно в Чикаго. Но я слишком явственно представляла себе, как он закроет лицо руками и станет всхлипывать, приговаривая: «Она пришла в воскресенье, когда библиотека вот-вот должна была закрыться, и заставила меня сесть в машину, сказала, что угостит конфетами! А я люблю конфеты и не подумал, что нельзя к ней садиться, она ведь не какой-нибудь незнакомец! А потом она стала спрашивать, сколько денег зарабатывает мой папа!» Меня объявят в розыск по всей стране, в новостях у моей истории появится собственная музыкальная тема, и у меня не останется ни единого шанса, даже если я успею доехать до Мексики. И кстати говоря, у меня даже нет с собой паспорта. Как ни крути, надо, чтобы Иэн сам захотел вернуться домой. А судя по блаженному выражению лица, с которым он, подобно золотистому ретриверу, высовывает голову из пассажирского окна, до этого еще далеко.
Полчаса спустя и на тридцать миль дальше от дома, чем вчерашним утром, когда я еще не пустила под откос собственную жизнь и не разбила сердце родителям Иэна, он спросил:
— Мисс Гулл, у вас нет каких-нибудь компакт-дисков?
— Здесь можно слушать только кассеты. Но у меня и их нет.
Иэн пошарил пальцем в щели для кассет и нажал на кнопку извлечения. Из проигрывателя выскочила кассета, которой я никогда раньше не видела.
— Это не моя, — сказала я.
Я только сейчас поняла, что с тех пор, как два года назад купила машину, ни разу не пользовалась кассетным проигрывателем. По дороге на работу я слушала Эн-пи-ар, а на обратном пути мне всегда хотелось побыть в тишине. Машину я купила у одного парня в Кентоне, который передал мне ее заваленную обертками из «Макдоналдса», колышками для гольфа и окурками.
— Может, это караоке! — воскликнул Иэн, затолкал кассету обратно в проигрыватель и нажал на перемотку.
Я с удивлением услышала, как проигрыватель со скрежетом принялся отматывать кассету на начало — я и не подозревала, что он на это способен.
— А ТЕПЕРЬ… — заорали колонки, и Иэн нырнул вперед, чтобы убавить громкость, — наш национальный гимн в исполнении… мисс Джины Арены!
Раздался радостный гул огромной толпы — люди, очевидно, знали, кто такая эта Джина. Иэн вдруг выпрямился, сорвал с головы бейсболку и прижал ее к сердцу.
— «Австралийцы, в прекрасной и юной стране мы свободно и мирно живем», — пропел ангельский звенящий голос. Толпа дружно ему подпевала.
— Это еще что такое? — спросил Иэн, нерешительно придерживая бейсболку где-то рядом с грудной клеткой — сомневался в правилах хорошего тона.
— «Нас земля награждает за праведный труд, и моря омывают наш дом».
— Судя по всему, это национальный гимн Австралии, — ответила я.
Я была так сосредоточена на дороге и на миллионе мрачных предзнаменований, которые маячили за лобовым стеклом, что даже не обратила внимания на произношение ведущего, объявившего песню.
— «Как прекрасны природы святые дары, нет таких в целом свете богатств! Пусть же славится, родина, каждый твой день, пусть же славится каждый твой час!»
Мы оба прохохотали до самого финала, но Иэн так и не убрал бейсболку от груди. Когда гимн закончился и началась трансляция какого-то древнего футбольного матча Кубка мира, Иэн снова включил обратную перемотку.
— Давайте его выучим! — воскликнул он, и весь следующий час мы подпевали Джине Арене, не без труда разбирая слова текста. У нас неплохо получалось, правда, когда мы попробовали спеть сами, без кассеты, исполнение вышло не идеальным, но зато «драйвовым», по выражению Иэна.
Глядя на него, прижимающего к груди бейсболку и распевающего гимн чужой страны, я представляла себе, будто Иэн родился где-нибудь в другом месте — в Финляндии или в Сан-Франциско или спустя сотню лет, в мире, где нет пасторов Бобов. Почти вся Америка была такая же, как Ганнибал, штат Миссури, что бы там ни говорили в новостях о больших городах Восточного побережья, чего бы там ни показывали в кино, как бы много ярких гей-персонажей ни появлялось в телесериалах в разгар вечернего эфира. Но справедливости ради надо сказать, что не только вся Америка, но и вся планета была такая же, как Ганнибал, штат Миссури.
Чтобы избавиться от «Славной Австралии», которая застряла у нас в головах, я включила радио и поискала какую-нибудь хорошую музыку. Иэну ничего особенно не нравилось, пока я не наткнулась на какую-то христианскую волну.
— Сделайте погромче! — закричал он. — Обожаю эту песню!
И он стал подпевать:
Вот Иисус пошел, оу-оу!
И на гору взошел, оу-оу!
Но все дальше шел, ше-ол!
Все дальше ше-о-ол!
Это было похоже на что-то из девяностых, композицию какой-нибудь группы из Сиэтла, только почему-то с текстом про Иисуса.
— Откуда ты знаешь эту песню? — спросила я.
— А, ну я хожу в такое место. Занятия, для детей. Нормальное место. И там мы слушаем музыку, а наш руководитель иногда приносит гитару.
Мне не хотелось проявлять слишком большой интерес к этой теме, но я подумала, что Иэну будет полезно об этом поговорить.
— А чем еще вы там занимаетесь? — спросила я.
— Ну так, разным. У нас там всякие учебники с заданиями, книжки читаем… Еще играем во всякие спортивные игры. В основном в футбол, только нам запрещают перехватывать мяч.
Я отвернулась к окну, чтобы Иэн не увидел, как я закусываю губу, чтобы не рассмеяться. Мне стало смешно, в первую очередь из-за того, что я представила себе Иэна играющим в футбол. Как-то у нас в библиотеке проходил День семейного досуга, и я попыталась бросить Иэну воздушный шарик, а он от него увернулся. А еще меня насмешило, что на этих их занятиях игрокам в футбол не разрешают перехватывать мяч у противника.
— Там и уроки какие-то есть?
— Ага, это что-то типа воскресной школы. Только, наверное, повеселее, потому что туда можно ходить в джинсах.
— И что, хорошие вещи вам там преподают? Ты веришь всему, что они говорят?
Он опустил солнцезащитный козырек над своим сиденьем и посмотрел в зеркало, втянув щеки и изобразив рыбу.
— Ну, — сказал он. — Там ведь все из Библии, так что все правда.
С таким утверждением не поспоришь — не нападать же с критикой на всю его религию. Печально в этом признаваться, но главной причиной моего нежелания спорить было не стремление понять чувства Иэна, а чистая стратегия: если он на меня рассердится, ему ничего не стоит воспользоваться первым же телефоном-автоматом, который нам встретится, и выдать меня полиции.
Поэтому, вместо того чтобы вступать с ним в спор, я сказала:
— Я знаю такие школы.
Этим заявлением я предлагала Иэну пропустить неловкую часть объяснений и рассказать мне побольше.
Но он ничего не сказал, а только сидел и молча смотрел в окно.
Иэн снова заговорил, когда ему захотелось спросить про наклейку с российским флагом на заднем стекле моей машины. Ее приклеил туда прошлым летом отец в приступе национальной гордости. Примерно в то же время он начал спрашивать меня, не хочу ли я сменить фамилию обратно на Гулькинову. Сам он и не помышлял о смене фамилии: многочисленные деловые партнеры знали его под именем Гулл и могли запутаться. Ну а в моем случае, говорил он, никто не заметит разницы.
Отец мог подолгу рассказывать о каждом звене рода Гулькиновых, от знаменитого воина-ученого с насаженной на копье головой и дальше по списку. Он носил на указательном пальце правой руки золотой перстень с семейным гербом, как это делают европейцы с длинным списком деловых авантюр.
— Этот парень, — не раз говорил он мне за долгим субботним завтраком, когда я была еще ребенком, — был совершеннейшим сумасбродом, сначала делал, а потом уже думал.
Отец покручивал перстень на пальце, пока тот не соскальзывал с руки — казалось, один из пальцев лишается бронзового сустава. И продолжал:
— Следующий Гулькинов был его сыном: когда враги пришли, чтобы отомстить и убить единственного наследника великого воина, он спрятался в поле пшеницы. Они-то считали, что найдут его дома, а он ушел на поиски счастья и процветания и домой вернулся только через двадцать три года. Следующий Гулькинов ринулся в бой на своем бравом коне и за один день истребил сорок человек. После чего царь сделал его своим фаворитом.
К тому моменту, когда отец добирался до революции большевиков, я обычно уже впадала в ступор, но вскоре начиналась самая интересная часть — о его отце и о нем самом. Мой дед, изнуренный голодом человек с огромными круглыми ушами, чье широкое лицо было едва различимо на мутных фотографиях, сумел хитростью добиться расположения Сталина лишь для того, чтобы совершить в отношении Дядюшки Джо какое-то непростительное преступление, отец никогда не мог толком рассказать, какое именно, и это меня ужасно раздражало. Долгие годы я развлекала себя самыми разными версиями: может, он стащил забытое Романовыми яйцо Фаберже? Или увел у Сталина возлюбленную? Но потом сообразила, что, если бы там действительно произошло что-нибудь настолько увлекательное, мой отец-сказатель давным-давно превратил бы это в прекрасную легенду, приукрасив и преувеличив все, что только можно. На самом же деле речь, вероятно, шла о неуплате налогов или каком-нибудь внутрипартийном конфликте. Так или иначе, дед после этого взял коробку сигар, бутылку водки и смену одежды и сообщил жене и восьмилетнему сыну, что уезжает в Сибирь, прежде чем его отправит туда Сталин. На этом история о нем обрывалась, и все свое детство я представляла себе, как в один прекрасный день в дверь нашей чикагской квартиры постучат и войдет он — в поросшей инеем шубе, с ледяными сосульками в густой бороде. Отец утверждал, что дед спустя несколько лет умер в Новосибирске, но у меня было на этот счет собственное мнение.