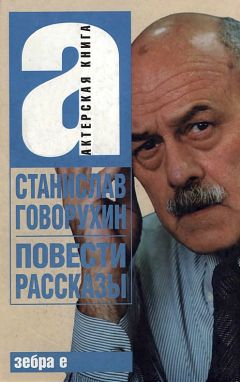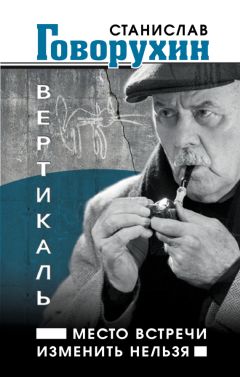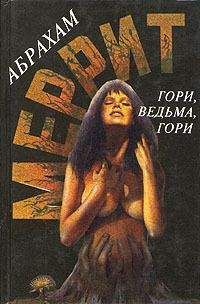— Павел уезжает.
— Когда?
Тамара посмотрела на маленькие ручные часики.
— В десять двадцать. Сейчас…
— Я побегу?.. — не двигаясь с места, скорее спросила, чем сказала Лиза.
Тамара покачала головой.
— Поздно… Осталось семь минут…
— Я все-таки побегу, — бесцветным голосом сказала она и снова осталась на месте. Тамара обняла ее, уронила голову на плечо, заплакала…
— Будем прощаться, — сказал Павел. — Что ж, ничего страшного. Все равно скоро увидимся. Скажите — пусть собирается в дорогу…
Они стояли спинами к вагону, смотрели в сторону входа на перрон. Печально пробил колокол. Пассажиры, теснясь, залезали в вагон, толпились за спиной кондуктора.
— Ничего страшного, — повторил Павел. — Жаль, конечно, что так глупо… — Улыбнувшись, протянул руку Александре. — Желаю успеха!
Подал руку Венере.
— Буду есть пироги и всю дорогу вспоминать Вас. Опять помолчали немного.
— За Лизавету не беспокойтесь…
— Я спокоен. Это счастье, что у нее такие подруги… В следующие каникулы приедете к нам в гости. Хорошо?
— Пора! — сказала Александра.
Он ступил на подножку.
— Скажите Лизе — пусть напишет. А я, в воскресенье приеду, — сразу дам телеграмму…
Поезд тронулся. Девушки замахали руками.
— Счастливо, Павел Иванович! Счастливо!
Вагон удалялся, а Павел, выглядывая из-за спины кондуктора, все смотрел туда, мимо подруг, где был вход на перрон. Потом прошел в угол тамбура к противоположной закрытой двери. Дрожащими пальцами достал папиросу…
В воскресенье утром Лизу разбудил репродуктор. Диктор объявил: «Московское время шесть часов утра. Сегодня воскресенье, 22 июня…»
Подруги спали или делали вид, что спят. Репродуктор все-таки здорово гремел. Лиза встала и убрала звук.
Она снова легла, но уже не спалось. Лежала с открытыми глазами, вспоминала…
Она встала и подошла к окну. В тени тополей дворник поливал цветы, его дочь, маленькая девочка играла в «классы» на расчерченном мелом тротуаре. Усталая пара — парень и девушка, держась за руки, возвращались домой, пробродив всю ночь. Город пробудился, но здесь, в строгой казенной комнате, куда не достало еще солнце, было тихо. Подруги спали. Она спрыгнула с подоконника, подошла к столу и опять задумалась… Взяла лист бумаги и села писать письмо. Написала: «Милый Паша…» И зачеркнула, смяла листок тетрадочной бумаги. Крупным ученическим почерком вывела:
«Дорогой Павел…» Но, помедлив, забраковала и это обращение.
Сидела и смотрела в тополиную листву за окном, кусала ученическую ручку. Потом быстро, размашисто написала: «Любимый…» И дальше уже не останавливалась. «Любимый, — писала она. — Я не могу жить без тебя. Каждый день, каждый час, каждую секунду я думаю о тебе. Где ты? Что теперь с тобой?..»
Она плакала, слезы скатывались по щекам, падали на руки, на бумагу. Она не вытирала их, и все ниже склонялась над столом, продолжая писать это первое из бесконечной серии страшных, кричащих о любви писем, которым так и не суждено было быть прочитанными.
Письмо это не нашло адресата.
Два часа сорок минут назад через все западные границы страны началось и сейчас продолжалось страшное, невиданное по мощи ВТОРЖЕНИЕ.
152 дивизии, оснащенные самыми современными орудиями смерти, обученные жечь и убивать, уже жгли наши дома и убивали советских людей, и первыми приняли смерть солдаты на линии пограничных столбов.
Ничего этого еще не знает она. Даже сейчас, через несколько минут, когда нарком иностранных дел произнесет по радио полные гнева и боли слова, обращенные к советскому народу, она не поверит и никогда не смирится с мыслью, что ее любимого уже нет в живых.
Такими, как эти девочки сороковых годов, были тогда наши матери. У многих из них война отняла любимых, но они выстояли и помогли победить. Их вела любовь. Любовь, которую нельзя убить. И они жили, надеялись, работали на победу и писали, писали эти страшные, склеенные слезами письма, торопясь высказать в них все, что не успелось в мирной жизни, выплескивая на листки ученических тетрадей самое чистое и дорогое, что только есть в глубинах человеческого сердца, что могло бы помочь солдату на его трудном пути к Победе.
1977 год
Катенька Измайлова[2]
Криминальные страсти
Предисловие автора
Долгие годы я мечтал перенести на экран повесть Лескова «Леди Макбет Мценского уезда». Не разрешали. Но вот повеяло духом свобод, я решил: пора!
И тут узнаю: в Киеве режиссер Роман Балаян снимает «Леди Макбет». Я огорчился. Фильм меня, зрителя и страстного поклонника лесковской вещи, совсем не удовлетворил. Эстетская картина, рассчитанная на публику Дома кино. Все красиво, но — ни духа Лескова, ни гнетущей атмосферы провинциального Мценска, ни бешеного темперамента Катерины Измайловой, ни ее животной страсти, толкнувшей на преступления.
Мнение, конечно, личное, к тому же пристрастное.
Вот тогда я решил перенести лесковский сюжет на современную почву и все-таки снять свою «Леди Макбет». Пригласил талантливого сценариста, Машу Шептунову, и мы придумали с ней эту киноповесть. Придумывал больше я, писала больше она; это ее неподражаемый литературный стиль.
Судьба сценария печальна. Начались трудные для кинематографа дни: я с головой — в политике… Тут приходит ко мне продюсер Игорь Толстунов и просит отдать сценарий Валерию Тодоровскому. Молодой Тодоровский — я его знаю с детства — хороший режиссер, я занят… короче, согласился. И двадцать лет жалею об этой минутной слабости.
Купили они у нас за бесценок сценарий и сняли фильм «Подмосковные вечера». Даже если судить только по названию — ничего от Лескова там не осталось.
Остался наш с Машей сценарий. Мне кажется, он представляет самостоятельную литературную ценность.
* * *
На дачу они выезжали рано, в начале мая. Иногда даже в апреле, если позволяла погода и гипертония Ирины Дмитриевны.
Тяжело груженная старая «Волга» неторопливо волоклась по проспекту, и свекровь привычно бормотала Кате в спину:
— Градусник! Ты забыла положить градусник. Вот я так и знала. Я чувствовала, что-нибудь непременно забудем…
А Митя сидел рядом с мамой и блаженно улыбался, бережно обнимая обеими руками могучую пишущую машинку «Роботрон», Катино орудие производства.
— И потом папино одеяло! — ужасалась свекровь. — Если вдруг ударит мороз…
— И грянет гром, — говорил Митя.
— Надо вернуться. А ты положила мою кастрюлечку, ту, с черной ручкой? — Катя кивала.
— А куда ты ее положила?
Катя пожимала плечами.
— Ты ее не положила. Ты даже не помнишь, куда ты ее положила, потому что ты ее не положила. Мы непременно должны вернуться! Катя, не спи, уже зеленый! (Это — о светофоре.)
Зато когда выезжали на Кольцевую, Катя с наслаждением выжимала из машины все силы, на какие старушка еще была способна.
И тогда свекровь поневоле отвлекалась от своих забот. Она вздрагивала, когда мимо проносились встречные машины. Она холодела от будничной близости смерти и лепетала, с ужасом глядя на стриженый затылок невестки:
— Катя, перестань. Катя, так нормальные люди не ездят. Ты посмотри, как люди ездят. Что ты делаешь? Не гони же, говорят тебе.
— Ямщик, не гони лошадей, — вполне приличным баритоном заводил Митя. — Мне некуда больше спешить, мне некого больше любить…
Ирина Дмитриевна длинно смотрела на сына.
— Не издевайся над родной матерью, — говорила она.
— Родная, — нежно говорил Митя и терся носом о мамино плечико.
Катя их не слышала. Она неслась на машине, как ведьма на помеле. Скорость завораживала ее. А когда въезжали на мост, молодая женщина едва справлялась с острым желанием направить машину за перила, такой доступной и естественной представлялась ей возможность полета.
Но потом с шоссе сворачивали в сторону, а еще потом — с асфальтовой дороги на грунтовую, и оно забывалось: то легкое, ослепительное чувство власти и свободы.
Историк по образованию, Катя работала машинисткой-надомницей в Архиве древних актов. Она сутками тарахтела на пишущей машинке в комнате коммунальной квартиры, где проживала вместе с матерью, прикованной к постели инсультом. Веселенькая была жизнь. Во всяком случае, мать нуждалась в Катиной помощи и тем придавала смысл Катиной жизни. Со смертью матери как будто бы улетучился и смысл жизни дочери, тридцатилетней девушки, неловкой, нескладной, с кротким, доброжелательным, вечно виноватым выражением вполне милого, вполне заурядного лица. Таких обижать неловко и стыдно: и так судьбой обиженные.