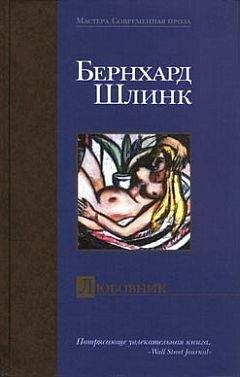— Я хочу тебе кое-что сказать, — тронул он ее за руку, когда она встала из-за стола и намеревалась идти в спальню.
— Да?
— Я познакомился с женщиной. То есть… я имею в виду, влюбился в одну женщину.
Она посмотрела на него. Лицо ее было непроницаемым. Или усталым? Затем она улыбнулась и быстро поцеловала его.
— Да, дорогой. Последний раз это было четыре года назад. — Она начала подсчитывать. — А предпоследний раз — восемь. — На какой-то момент она запнулась, глядя в пол. Он не знал, хочет ли она что-то добавить или ждет его ответа. Она сказала: — Закрой, пожалуйста, окно в комнате у Регулы.
Он кивнул. У дочери до сих пор держалась высокая температура. Когда он укрыл девочку и послушал, как она дышит во сне, Юта уже легла в постель. Ему показалось ребячеством решение спать на кушетке в гостиной. Он разделся и лег на свою половину кровати. Юта, уже засыпая, прильнула к нему.
— Она тоже брюнетка, как и я?
— Да.
— Расскажи мне о ней завтра.
3
Вероника не торопила его. Она понимала, что пока болеет Регула, для решения вопроса о разводе с Ютой время не самое подходящее. Пока домработница была в Польше. Пока Юта разбиралась с последствиями пожара и на шее у нее висели двое новых сотрудников фирмы, которых надо было ввести в курс дел. Пока он корпел над проектом моста через Гудзон, ей и самой хватало хлопот с галереей в Гамбурге и двумя филиалами в Лейпциге и Брюсселе, да и не такой она была женщиной, возле которой постоянно должен находиться мужчина. Разве не достаточно было того, что брак Юты и Томаса стал лишь пустой формальностью, сохранялся ради фирмы и детей, а настоящей жизнью он жил только с нею. Проводил у нее каждую свободную минуту. Свой отпуск во время школьных каникул он разделил на две части. Неделю катался на лыжах с Ютой и детьми, на неделю полетел из Мюнхена во Флориду, где у Вероники была квартира. Летом он совершил с сыновьями велосипедный тур, а затем две недели путешествовал пешком вместе с Вероникой по Пелопоннесу. На Рождество в Святой вечер и в первый рождественский день он был дома с семьей, а перед Новым годом и в Новый год — в Гамбурге. Вероника устроила ему в своей огромной квартире мастерскую, где он рисовал. Семья с пониманием относилась к тому, что ему необходимо уединение и он уезжает куда-то рисовать, даже если он и не рассказывал никому, куда именно.
И вновь пришла весна, потом лето, осень и зима — прошел год. 15-го января стукнул год с того вернисажа, и Вероника устроила вторую выставку его картин. И снова на следующее утро он ехал на поезде в Берлин, правда, уже не такой обессиленный, как год назад, и совсем не такой счастливый. Однако все же он был счастлив. Хотя и не считал правильным то, что ведет двойную жизнь. Ведь так жить нельзя. Нельзя так обходиться с женщинами. Нельзя быть «неполным» отцом своим детям, быть отцом только наполовину, всегда готовым сорваться и уехать. А что произойдет, если Вероника станет матерью? Она-то ему ничего не говорила, но он заметил, что она больше не предохраняется. Он твердо решил поговорить с Ютой. Но дома было все как обычно, и не было оснований сейчас, именно сейчас, заводить речь о разводе. Когда вечером они сидели за круглым столом и ужинали, он понял, что не хочет терять свою семью. Оба сына немножко сорванцы, но ведь славные ребята, открытые и отзывчивые, дочка — его белокурый ангел, и Юта, сердечная, великодушная, энергичная и всегда привлекательная — он любил их. Почему же он должен их бросить?
На второй год их сожительства у Вероники родилась дочь. Он присутствовал при родах, навещал, когда разрешали, ждал возвращения и рисовал, живя в ее квартире, пока не забрал их с Кларой из клиники. Тогда он на две недели попрощался с Берлином, а когда они пролетели, квартира в Гамбурге уже стала для него родным домом. Вторым родным домом, так как берлинская квартира не переставала им быть. Но здесь, в Гамбурге, не было его большой семьи, а там не было Вероники.
Все усложнилось. Вероника нуждалась в нем. Она стала капризной, с трудом скрывала раздражение, это бесило его, она относилась к нему как к любящему, но недостаточно надежному и абсолютно эгоистичному человеку, последнему статисту в разыгрываемом спектакле, что он воспринимал как оскорбление.
— Я не знаю, как я со всем этим справлюсь, — кричала она, — не могу же я доказывать тебе, что со мной легче и лучше, чем с твоей женой.
Потом она плакала:
— Я понимаю, я сейчас невыносима. Но я не была бы такой, если бы мы наконец были вместе по-настоящему. Я никогда не давила на тебя, но сейчас я делаю это. Во имя себя и во имя нашей дочери. Сейчас, когда она маленькая, ты ей особенно нужен, а твои дети в Берлине уже большие.
А дома в Берлине давила Юта. Они не прекращали спать в одной постели как до, так и после рождения Клары. Он был нежным и страстным, как в старые добрые времена. Когда, обессиленные и удовлетворенные, они лежали рядом, Юта строила планы относительно нью-йоркского проекта. А не построить ли ему мост через Гудзон самому? Впервые в жизни самому руководить строительством моста? Может быть, на два-три года, пока строится мост, всем вместе переехать в Нью-Йорк? Отдать там детей в школу? Снять одну из прекрасных квартир на Парк-авеню, которые они видели во время своего последнего путешествия? Все это Юта выдавала как бы невзначай. Но она была сыта по горло нынешним положением вещей и желала это прекратить. Он все понимал и раздражался еще больше.
Осенью его терпению пришел конец. С одним своим старым, еще школьным, а потом и университетским товарищем он отправился в многодневный поход по Вогезам. Листва была яркой, солнце грело по-летнему, и после многодневных дождей земля пахла тяжело и пряно. Их маршрут проходил по горным тропам вдоль старой немецко-французской границы. Вечером они находили какую-нибудь сельскую гостиницу или спускались в деревушку. На второй вечер они встретили в одной из гостиниц двух девушек из Германии, студенток, одна из которых изучала искусствоведение, другая — стоматологию. На третий день они вновь случайно встретились. Вместе им было весело, беззаботно и очень приятно, и то, что он в конце концов оставался с одной из них в их номере, тогда как его друг повел вторую к себе, вышло как бы само собой. Хельга была простенькой блондинкой, в ней не было ничего от изысканной и обостренно-нервной элегантности и энергии, которыми отличались и Юта, и Вероника. У нее было роскошное тело, она знала, как получить удовольствие и как дарить его, была столь женственной и манящей, что все его проблемы и заботы показались ничтожными.
На следующий день они уже путешествовали вчетвером. Девушки через день возвращались домой в Кассель. Выяснилось, что зимний семестр они проведут в Берлине. Хельга дала ему свой адрес. «Позвонишь?» Он кивнул. И когда в ноябре ему все надоело и он уже не мог, ну не мог больше слушать ни предложений Юты, ни упреков Вероники, в Гамбурге у него комом стоял в горле сладковатый младенческий запах, а в Берлине выводили из себя крики вступивших в возраст полового созревания сыновей, когда в фирме было невпроворот дел, а для рисования не хватало времени и он чувствовал себя не в своей тарелке и ненавидел самого себя, — вот тогда он позвонил Хельге.
Уже от нее он дважды позвонил и оба раза сказал, что ему срочно нужно слетать в Лейпциг, и она с усмешкой спросила у него:
— У тебя что, две жены?
4
Без Хельги ему было бы совсем тяжко. Она не задавала лишних вопросов и вообще говорила немного, была такой красивой и мягкой, радовала его в постели, радовалась их совместным поездкам и обедам, расцветала от его подарков. Он был счастлив, что она у него есть, и потому баловал ее. И когда ему становилось невмоготу от навалившихся проблем, она была здесь, рядом с ним.
И продолжалось это до тех пор, пока не пришла пора сдавать выпускной экзамен. Ей понадобился пациент, она попросила его помочь, он не смог отказать и согласился стать ее пациентом. Он уже приготовился ради нее терпеть болезненные уколы, эту жуткую бормашину, ужасные пломбы и кривые коронки. Но в действительности терпеть пришлось совсем другое. Все было четко отлажено, ни боли, ни мук. Скорее, наоборот. Каждый шаг Хельги контролировался врачом-ассистентом, а если и у того возникали сомнения или трудности, на помощь приходил главврач. Нигде не было сбоев. Да и само ожидание врача не было таким уж неприятным. Кроме Хельги, была и другая студентка, которая ей помогала, а потом они менялись, разговаривали и шутили с ним, и когда Хельга наклонялась над ним, то грудью касалась его лица. Но все это длилось целую вечность. Он проводил в стоматологической клинике часы, иногда целые дни. Если ему назначали прийти в девять утра, срывались все деловые встречи до обеда, а если он приходил в два, то до пяти еще сидел в клинике и не мог ни с кем встретиться, съездить на стройку или получить необходимое разрешение. Приходилось сдвигать деловые встречи на вечер и работать в выходные дни. Искусно выстроенное здание, состоявшее из его берлинской и гамбургской жизней, зашаталось.