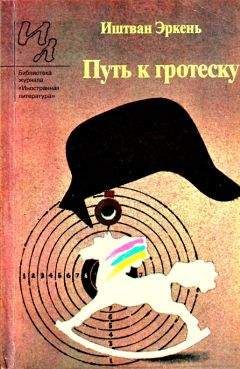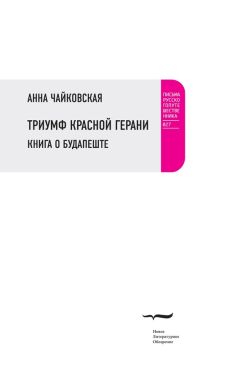— Что случилось? Здесь кто-то был? — спросила Ирма, не зная, отнести ли эти мимолетные шорохи на счет сна или яви. — Не спится тебе, мой Михай?
— С чего ты взяла?
— Тогда почему у тебя лампа горит?
Прохоцки щелкнул выключателем, но так и не смог уснуть. Лежал, уставившись в темноту, пока не начало светать; тогда он тихонько встал с постели и пошел умываться. К тому времени, как Ирма проснулась, его уже не было дома.
У нее тоже осталось немало дел на последний день. Надо было упаковать ручной багаж — помимо тех вещей, которые хранились на таможне. Поэтому Ирма замыслила прихватить с собою самую лучшую и дорогую одежду, какая только у них была, и, когда докторша проснулась — она в этот день отпросилась с работы, — они вместе принялись отбирать и укладывать вещи.
Тем временем Михай Прохоцки, покончив с последними официальными делами, отправился покупать себе меховую подстежку к зимнему пальто. Время шло к десяти часам. Ночной морозец еще не успел убраться с улиц, но солнце светило ослепительно ярко, пробиваясь сквозь трепетную, искрящуюся завесу из пылинок. Прохоцки в каком-то легком опьянении неспешно брел по улицам; он не слишком раздумывал, какое направление выбрать, просто шел себе и шел, со сладостно-щемящим звоном в ушах, к Бельварошу, к центру города. Инстинкты вели его тем путем, в конце которого — когда-то давно — его поджидала «Сибирская куница» с ее сверкающими витринами. Вот уже семь лет, с тех пор как его национализировали, он издалека обходил не только свой бывший магазин, но и страстно любимую улицу Ваци.
Ровно в десять часов два энергичных долгих звонка раздались в квартире Прохоцки. К величайшему изумлению хозяйки, перед дверью выстроилась целая вереница людей. Впереди стояла какая-то толстая рыжая тетка, которая, как сонная курица, с равномерными интервалами моргала своими выпученными глазами. За ней, с двумя тяжеленными чемоданами в руках, — доктор Браниско в сопровождении нескольких мастеров. По всей лестничной площадке громоздились ящики, ведра, лестницы-стремянки и всевозможные инструменты.
— Прошу прощения, дорогая тетушка, — сказал доктор. — Правда, квартиру эту мне обещали, но лучше подстраховаться… Вы уж будьте так добры, позвольте нам вселиться.
Ирма впустила в квартиру весь караван и радостной улыбкой поблагодарила доктора за поцелуй руки, однако в учащенном биении ее сердца уже улавливалась морзянка дурных предчувствий. И действительно, в последующие часы в квартире Прохоцки разыгрались тягостные сцены.
Мастера принялись за работу. Каменщик осматривал и замерял стены, другой мастер снимал с окон ветхие жалюзи, слесарь подыскивал подходящее место для радиаторов с газовым отоплением, доктор же, которого с любопытством обступили мать, супруга и Ирма Прохоцки, вертел в руках лампу с пергаментным абажуром.
— Двадцать форинтов, дорогая тетушка. Как по-вашему, мама? — обратился он к своей необъятной мамаше, которая в знак согласия дважды моргнула выпученными глазищами.
— Да что вы такое говорите? — Ирма выхватила у него ламп у. — Это же мейсенский фарфор. Вы сами сказали, что эта лампа — свидетельство абсолютного вкуса.
— Как же, как же, дорогая тетушка. Но, к сожалению, абажур придется подновить. А теперь, мама, взгляните на эту печь. Это якобы французский фарфор.
Рыжая толстуха, в очередной раз моргнув глазами, одобрила изящную печь, а доктор предложил за нее еще более оскорбительную цену, чем за лампу. Алебастровые щеки Ирмы начали наливаться румянцем, и обе родинки вспыхнули красными сигналами опасности… Когда же доктор Браниско, подступив к постели Михая, сказал: «А за это мы дадим триста форинтов, верно, мама?» — Ирма Прохоцки не только излечилась от своих прежних восторгов, но и тотчас сменила их на живейшее отвращение.
— Я считала вас благородным человеком, — холодно проговорила она. — Мы находимся в стесненных обстоятельствах, и вы, зная это, ведете себе некорректно…
— Некорректно? — поразился доктор и взглянул на мать, как бы прося поддержки. Но та знай себе моргала, явно не понимая, какие могут быть претензии к ее сыну. А доктор Браниско, недоуменно качая головой, уселся и дважды подпрыгнул на постели, проверяя пружины. Мастер перестал заниматься жалюзи и слез со стремянки, каменщик поднялся с колен, слесарь тоже пришел из кухни, и все они, обступив постель Михая Прохоцки, ждали результатов торга.
А Михай Прохоцки приблизительно в это же время добрался до улицы Ваци. Он остановился в начале изящной, плавно изгибающейся улицы против здания бывшей гимназии пиаристов и торжественной поступью двинулся к площади Вёрёшмарти, по направлению к прежней оптической мастерской Кальдерони и кондитерской Жербо.
Потеплело, ему пришлось расстегнуть пальто. Повсюду сновало множество людей, и это несколько озадачило его: втайне он полагал, что улица, с тех пор как он покинул ее, вымерла и опустела. Однако тут он ошибся. Улица кишмя кишела прохожими — торопливо спешащими и лениво разгуливающими, пялящимися на витрины и болтающими между собой; народу было столько, что на тротуарах не поместиться, люди толпились и на мостовой, где с оглушительным ревом проносились машины и автобусы, чудом избегая несчастных случаев.
Прохоцки радостно поддался движению толпы. Задерживался вместе с остальными то у одной, то у другой витрины и разглядывал то же, что и они. Правда, ему нужно было купить всего лишь подкладку к пальто из какого-нибудь дешевого отечественного меха, да и то лишь в угоду настойчивому желанию Ирмы; однако и приданое для новорожденных, и парфюмерные товары, и дамские шляпки, и даже предметы санитарии и гигиены вызывали в нем интерес. Это праздное созерцание наполнило его душу ностальгически-сладостным счастьем.
Кто лучше его знал, сколь прекрасной и элегантной, изысканно великолепной была эта улица! Да и не улица, а какая-то другая, более возвышенная категория — символ, ранг, то есть, как говорится, особое понятие. Какая обувь, какие кожаные сумки, горностаевые накидки, лыжные свитеры и подвенечные букеты, всевозможные испанские вина и крабы за стеклом витрин! А какие женщины — нарядные, благоухающие, с изящной походкой — и плечистые, бравые мужчины истерли до гладкости плиты этой мостовой! На всех языках мира слова «улица Ваци» имели вес. «Где изволили приобрести сию шубу?» — «У скорняка с улицы Ваци». И это придавало вещи особый ранг, примерно как среди лордов наибольшим почетом пользуется тот, кто получил свой титул от самого древнего короля.
Теперь всему этому конец. Другие люди, другие товары, другие витрины. Незнакомые фирменные вывески, за которыми кроются прочные, но малопривлекательные массовые товары. Плохое размещение ассортимента, безвкусные декорации, неумелое оформление витрин. Прохоцки бросал по сторонам колючие взгляды, медленно продвигаясь вместе с людским потоком вдоль той стороны улицы, напротив которой когда-то помещалась «Сибирская куница». Он остановился перед крохотной, тесной витриной, где были выставлены накидки из голубого песца и свалявшийся соболий мех не первой свежести, когда узкая дверь вдруг распахнулась и чей-то голос воскликнул:
— Ба, кого я вижу! — И из магазинчика вместе с облаком спертого воздуха выскочил толстый юркий человечек из той породы людей, что и летом, и зимою одинаково обливаются потом. — Очень-очень рад, господин Прохоцки.
Прохоцки отнюдь не очень радовался этой встрече. Толстый человечек оказался не кто иной, как Ш. Вайсбергер, его опаснейший противник в былые времена. Вайсбергер, к примеру, не гнушался рекламой в кино и газетах — от таких ярмарочных способов фирма «Прохоцки и сын» неизменно воздерживалась, — заламывал бешеные цены и вдобавок ко всему обманывал покупателей. К сожалению, особенность скорняжного дела заключается в том, что покупатель лишь годы спустя обнаруживает, что его надули. Вследствие всех этих причин заведение Ш. Вайсбергера стало процветающим и завоевало широкий круг покупателей не только среди нуворишей и евреев-банкиров, — даже в числе исконных клиентов «Сибирской куницы» отыскались неустойчивые семейства; ослепленные блеском мраморных прилавков и угодливой лестью Вайсбергера, они подались на его сторону.
— Я смотрю, вы открыли свое заведение, — сказал Прохоцки и не поскупился на вежливую улыбку бывшему конкуренту. Тот смерил старика испытующим взглядом.
— Лучше бы мне этого не делать! Вам, наверное, тоже доводилось читать, что теперь мелкое ремесленничество якобы поощряется… И я, глупец, поддался на эту удочку.
— Ну, что вы… — сказал Прохоцки. — Открыть свой магазин — это же великое дело!
— Это, по-вашему, магазин? — Вайсбергер махнул рукой назад, в сторону вонючей дыры. — Разве это достойно имени Вайсбергера?
— Какова цена этой накидки? — Прохоцки указал на песца. Испытующий взгляд Вайсбергера сделался подозрительным. Вместо ответа лавочник начал жаловаться: расходы большие, налоги еще того больше, а денег у покупателей и вовсе не стало…