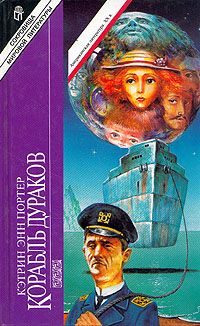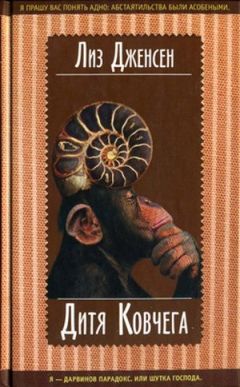— А если я никогда ни в кого не влюблюсь, тогда как же? — терпеливо гнула свое Эльза.
— Ну, тогда надо изо всех сил надеяться, что кто-нибудь влюбится в вас, — сказала Дженни, ей казалось, что ее кружит какая-то медлительная, безостановочная карусель. — Неужели вы не понимаете, Эльза? Ведь это так просто!
— А вдруг в меня никто не влюбится, тогда что?
— Ничего, надо полагать, — призналась Дженни, чувствуя, что ее наконец загнали в угол.
— Вот именно, — с горьким удовлетворением отозвалась Эльза и смолкла.
«Ни дома, ни отчизны».
Песня Брамса
Дети Лолы, близнецы Рик и Рэк, поднялись спозаранку, пока Лола и Тито еще спали, и тихонько оделись. Пуговицы застегнуты вкривь и вкось, волосы взлохмачены, черные глаза смотрят настороженно, и от этого в резких чертах землисто-бледных лиц есть что-то жесткое, недетски искушенное; они вечно проказничали наяву и затевали всякие проказы во сне.
Они тоже участвовали в представлениях труппы — пели и плясали, наряженные тореадором и Кармен, а потом в уборной, взвинченные, издерганные, ругались и дрались, поспорив, кому больше хлопали зрители. В остальном они всегда были единодушны и дружно вели яростную, необъявленную войну с миром взрослых — вернее, со всем миром, потому что они враждовали еще и с другими детьми, и со зверями тоже.
При крещении их назвали Армандо и Долорес, но они переименовали себя Рик и Рэк в честь героев любимого комикса, который печатала одна мексиканская газета, двух хулиганистых жесткошерстых терьеров, и жадно, завистливо изо дня в день следили за похождениями своих любимцев. Эти терьеры — в глазах своих поклонников, разумеется, не просто собаки, а сущие дьяволы, какими они и сами мечтали заделаться, — неизменно оставляли в дураках самых умных людей, отравляли существование всем вокруг, всегда и при всех обстоятельствах с помощью какой-нибудь коварной уловки ухитрялись добиться своего и выйти сухими из воды. Короче говоря, именно такими идолами дети во все времена восхищались и мечтали стать такими. Близнецы так и считали, что они сами — Рик и Рэк, и черпали в этом некую тайную силу.
Под первыми солнечными лучами чуть курились паром еще влажные палубы, и по ним изредка неторопливо проходили матросы. Рик и Рэк заглянули в одну из гостиных, и здесь молча, словно по заранее обдуманному плану, Рик вытащил пробку из бутылки с чернилами и положил бутылку на бок. Минуту-другую они следили, как чернила льются на чистый бювар и стекают на ковер, потом так же молча вышли на палубу с противоположной стороны; тут Рэк увидала на шезлонге фрау Риттерсдорф забытую хозяйкой пуховую подушечку, схватила ее и, ни слова не говоря, кинула за борт. Оба серьезно смотрели, как подушка подпрыгивает на волнах, и удивлялись, отчего она так долго не тонет. Но вдруг за спиной у них появился матрос, и они дали стрекача с таким вороватым видом, что матрос нахмурился и пытливо осмотрелся, стараясь понять, что они натворили; ничего не заметил, покачал головой и пошел по своим делам, а улика осталась далеко позади и медленно погружалась в воду.
Рик и Рэк перевесились через перила на корме и завороженно уставились на нижнюю палубу. Сотни людей, мужчины и женщины, валялись там на досках, мучаясь морской болезнью, и матросы окатывали их из шланга. Люди лежали прямо в воде и лишь изредка поднимали голову или пытались отползти поближе к борту. Один человек сел, просительно протянул руку к ближайшему матросу, тот привернул шланг, тонкой струйкой обмыл лицо и голову сидящего, снова пустил воду сильной струей и, смывая грязь с одежды, окатил его самого.
Еще один человек лежал ничком и стонал, и как-то булькал, захлебывался, словно утопающий. Два матроса подхватили его, отнесли к нижней ступеньке трапа, ведущего в темную глубину трюма, и там усадили. Он тотчас повалился на бок.
— Сейчас мы его подымем, — сказал Рик, снял тяжелую, чересчур свободную коричневую сандалию и запустил вниз. Он промахнулся, сандалия угодила в молодую женщину с младенцем на руках, которая сидела неподалеку. Юбки женщины намокли, босые ноги почернели от грязной воды. Она подняла глаза, погрозила кулаком и разразилась великолепной бранью — почти все ругательства были знакомы близнецам, но она прибавила и несколько слов, которых они прежде не слыхали, хотя поняли смысл. Впервые за это утро они обменялись улыбкой, радуясь открытию, и продолжали жадно слушать, не спуская глаз с перепачканного лица женщины, искаженного ненавистью и бессильной яростью.
Какой-то матрос на нижней палубе подобрал сандалию и кинул обратно, да так метко, что она ударила Рика в грудь, и тут же кто-то сзади крепко схватил каждого из близнецов за плечо, и властный голос спросил сурово:
— Вы что тут делаете?
Их стащили с перил и поставили на пол так внезапно, что ноги у них подкосились от толчка, но они упорно уводили глаза от холодного взгляда молодого помощника капитана; тот встряхнул обоих, как щенят.
— Только попробуйте еще раз учинить такое — вас до конца плаванья посадят под замок. Зарубите себе на носу!
Он легонько подтолкнул близнецов, и оба, дерзко усмехаясь, побежали прочь.
Они едва не налетели на умирающего, которого, как малого ребенка, возил в кресле на колесах высокий юноша с очень сердитым лицом.
— Прочь с дороги! — зло крикнул он им по-испански, и оба, показав ему язык, проскочили мимо.
Умирающий сидел, обложенный подушками, и кашлял, он кашлял дни и ночи напролет, тощая бороденка его тряслась, белки глаз были совсем желтые.
— Постой-ка, — сказал он юноше, и они остановились.
Бессильно вытягивая шею, умирающий старался разглядеть людей на нижней палубе, и при виде этой необъятной беды лицо его болезненно кривилось от жалости. К этому времени кое-кто из бедняков внизу поднялся на ноги; они кучками жались к стенам и к поручням, а матросы все еще струями из шлангов смывали в море грязь и рвоту. А потом несчастные в мокрой одежде опять укладывались вповалку прямо на палубу или на промокшие шезлонги, и в убийственной жаре от них поднимался странный, удушливый запах зверинца и гниющих овощей.
Старик Графф сказал негромко, словно про себя:
— Только об одном могу я думать — что же должна выстрадать грешная плоть, прежде чем ей позволено будет умереть. Дорогой ценой все мы должны купить благословенную смерть, Иоганн.
Губы Иоганна передернулись гримасой ярости и отвращения. Он ничего не ответил. Умирающий простер руку над нижней палубой, словно благословляя.
— Исцели их, Господи, дай им здоровья, и добродетели, и радости… Если бы только я мог их коснуться. Иоганн, — прибавил он слабым голосом, обращаясь к юноше, своему племяннику, — помоги мне спуститься к ним, чтобы я мог коснуться хоть немногих больных, им надо принести облегчение, нехорошо оставлять их страдать…
Угрюмо надутые губы Иоганна досадливо скривились, он срыву толкнул кресло.
— Вы же знаете, что вас туда не пустят. И чего зря чепуху городить?
В молчании они двинулись дальше, слабо поскрипывало кресло.
— Я тебя прощаю, племянник мой Иоганн, прощаю твое жестокое сердце и недобрую волю. Ты не можешь причинить мне зла, а вот я мог бы тебе помочь, если бы ты не противился.
— Вы мне поможете, если помрете и освободите меня, — тихим дрожащим голосом сказал Иоганн и резко повернул кресло. — Умрите наконец, а я поеду домой!
Дядя несколько минут обдумывал его слова, потом сказал рассудительно, как будто разговор у них был самый обыденный:
— Я обещал оставить тебе свои деньги, Иоганн, если ты отвезешь меня в Германию, чтобы я в последний раз увидел родные края. Разве не стоит об этом поразмыслить?
— Когда же? — устало спросил Иоганн. — Когда?
Кресло дрогнуло под его руками, колеса задребезжали.
— Наверно, ждать уже недолго, Иоганн, таков естественный ход вещей. Не думаешь же ты, что я могу точно сказать день и час? Но я с самого начала тебе говорил, что если ты отвезешь…
— Хватит, — прервал Иоганн, — я сто раз все это слышал.
— И твоя матушка, моя несчастная сестра, была рада, что тебе выпал такой случай. И я повторяю свое обещание, я все завещаю тебе, хотя ты этого и не стоишь, ты этого не заслуживаешь, ведь в наш уговор входили милосердие и доброта. Но, уж не говоря обо всем этом, ты теперь сможешь довершить свое образование в Германии; возможно, тебе вовсе не надо будет возвращаться в Мексику; я на это надеюсь.
— Я поеду, куда захочу, — отрезал Иоганн. — А мою мамашу очень мало трогает, что со мной будет. Ей нужны только ваши деньги.
— Может быть, ты и прав, дорогой мой племянник, — сказал Графф, поперхнулся и закашлялся. — Но деньги ведь пойдут тебе, а не ей. — Он достал из-под легкого пледа, которым был укрыт, бумажный пакетик и сплюнул в него. — Я вижу, ты поистине сын моей сестры. В нашей семье она одна была такая. Всегда, с малых лет — черствая душа, каменное сердце.