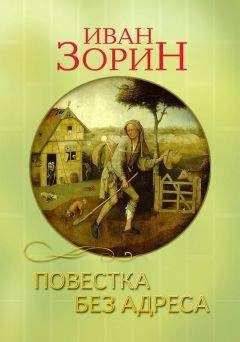Козьма Пыкин, единственный друг Кондратова, слыл пошляком, хотя был застенчив, как осеннее солнце. От лжи у него слезились глаза, а от правды рыжел ус. Как и Кондратов, он не входил в московский писательский кружок, выпасть из которого легче лёгкого, а попасть труднее, чем в собственный желудок.
— Талант должен быть с кулаками! — иронизировал Пыкин, передразнивая Птичкина.
— Талант должен быть, — эхом откликался Кондратов.
И обоим казалось, что мир с годами делается как дождь, а его законы укладываются в рифму «семь копеек» и «сорок семь копеек».
Солнце облизывало фонари, от которых шарахались короткие тени.
— Какой сын ладит с отцом? — успокаивал друга Пыкин. — Это закон природы, биология…
«Зоология», — подумал Кондратов. И хмыкнул:
— То-то и мы бунтуем против Отца Небесного!
Пыкин заломил бескозырку:
— Ну, ты загнул…
— Не я, — вспомнил Кондратов Клемента Сирийца.
Они шли по Пречистенке, оседлав тени и перебрасываясь словами, в которых истины было ни на грош. Пыкин ходил вразвалку, а говорил ходами шахматного коня. Однажды Кондратов заметил, что он имеет несколько возрастов. По паспорту и набухшим венам время добралось до пятидесяти, а в беспокойных, как прибой, глазах застыло на двадцати. В действительности Пыкин не имел возраста. Про таких говорят, что в юности им темно дышать, а в старости щекотно умирать. «Худенькие хороши летом, а зимой нужна баба покрупнее», — говорил он. Но был убеждённым холостяком, считая, что женщины живут дольше мужчин, потому что у них нет жён.
Кондратов молчал, уйдя в себя, как самолёт в «штопор», прикрылся растопыренной ладонью. Но сквозь неё рассматривал плывшую мимо нимфетку.
«Седина в бороду — бес в ребро!» — оттопырив большой палец, ткнул его в бок Пыкин. И поведал
ИСТОРИЮ ПРО РЕБРООдин человек уснул раз в трамвае, переполненном, как тыква семечками, а проснулся от того, что ему в ребро упёрся зонтик. Подняв глаза, он увидел девушку, а на острие её зонтика — беса. Последний был как червяк и откладывал яички, похожие на яблоки.
— Купи яички, — пищал он, — и будешь различать добро и зло!
А сам норовил подсунуть капли с зонта.
— Я давно знаю, что такое хорошо и что такое плохо, — рассмеялся мужчина, у которого серебрились виски.
— А вот и нет, — оскалился бес, — тебе только кажется… Скажи, жизнь — благо?
— Безусловно.
— Тогда почему год назад тебя вынули из петли, и сейчас ты возвращаешься из психушки, где днём уверял врачей, что здоров, а ночью примерял красную маску смерти?
Мужчина смутился:
— Это было во сне…
— Это ты сейчас спишь, — съехидничал бес.
Между тем трамвай обезлюдел, как земля до грехопадения, и с грохотом мчал к последней остановке.
— Я, кажется, сломала вам ребро, — покраснела девушка.
— Мы стали старейшими пассажирами, — развёл руками мужчина. — А это грозит одиночеством.
Бес чихнул и спрыгнул с подножки.
А дальше всё пошло обычным чередом. После ужина в дорогом ресторане в гостиничном номере родилась женщина…
— Завтра у Анастасии день рождения, — вспомнил Кондратов.
Пыкин сощурился:
— Женщина для мужчины — что осиновый кол…
ДНЕВНИКИ СМЕРТИИми забиты архивы небесной канцелярии. Чтобы не ударить в грязь лицом, некоторые из них разболтала Шахерезаде смерть, каждый раз заключая: «Меня боятся все, но — по-разному…»
Кондратов сдал. Его борода серебрилась теперь, как зимний лес, а по ночам он скрипел зубами. «Как мотылёк на игле», — жевал он глазами темноту, представляя
СМЕРТЬ ПРОГРАММИСТАС утра до ночи он сутулился за компьютером, не отрываясь от клавиатуры, чесал подбородок плечом, а с ночи до утра видел себя погружённым в виртуальную реальность. Он мечтал о бессмертии, которое сотворит своими руками. Он верил, что его «я» слагают возраст, имя, отпечатки пальцев, голос, привычка говорить «нет» чаще, чем «да», фотографии детства, размер ботинок — детали, которые может вечно хранить электронная память. Он шифровал их, занося в базу данных, и надеялся, что когда-нибудь, как феникс, восстанет из цифр. Кровь, текущую в жилах, он закодировал группой крови, копну волос — их количеством, и, думая пребывать во веки веков, распорядился вместо имени выбить на своей могиле интернетовский адрес.
За этим я и застала его.
— Надеюсь, ты не покусишься на мой виртуальный образ? — опасливо спросил он.
— Господь с тобой! — замахала я. — Я не отличаю «интернета» от «интерната», я возьму только то, что мне причитается.
И с этими словами исторгла его душу.
«Но и смерть — суета», — думал Кондратов, вспоминая
СМЕРТЬ ДЕЗДЕМОНЫПримчавшись в антракте, я купила контрамарку и притаилась в чёрных ладонях, напомнивших мне ад. От безделья я ещё раз прочитала по ним судьбу и, сверившись, подвела стрелки часов. Я уже опаздывала, а они всё говорили и говорили, будто не наговорились за жизнь. Но, наконец, я услышала сдавленные хрипы, в которых недоумения было больше, чем страха «Я, как приступ астмы, — подумала я, — передо мной не надышишься…»
Едва переправив женщину, я вернулась за мужем.
«Теперь и умирать не страшно, — выйдя из роли, признался он, — есть, кому встретить…»
Хуже нет, чем ходить на трагедии: сырость такая, что насморк обеспечен.
— У литературных героев не только своя жизнь, но и своя смерть, — прокомментировал этот дневник Пыкин. — То ли дело
ТРИ СЕСТРЫОни жили в горах, и выше обитал только Бог. На троих у них было два глаза и четыре уха, и, доберись к ним геронтологи, они бы побили рекорд долголетия. Природа не терпит одной краски, мир от земли до неба, как слоёный пирог: внизу в городах время бежит, как испуганная лошадь, а у Бога оно стоит. Старухи ютились под самой его крышей, и в их саклях время текло медленнее, чем кровь у флегматика. Они ели козий сыр, похожий на обгрызенную луну, носили ветхие платья, в которых дыр было больше, чем материи, и пили вино из эдельвейсов. Они были неграмотны, считали, загибая пальцы, и образование им было нужно, как скребущимся на чердаке голубям.
Как-то младшая из сестёр качалась в гамаке, когда старшая работала в огороде. Та рассердилась и отпустила колкость. Слово не воробей, оно кружило вороном над жилищем старух, разбрасывая молчание, которое, как мальчишка в угол, вписывалось в безмолвие гор. Оглохшее от тишины время, едва ползшее по перевалам, измерялось теперь длинной овечьей шерсти и величиной горбов. Наконец, средняя из сестёр не выдержала. «Пора мириться, — сказала она, — тридцать лет прошло…»
До ближайшей церкви им было топать полжизни, но старухи свято соблюдали правило «в пятницу не смеяться, чтобы в воскресенье не плакать», опасались дурного глаза и сторонились чужаков. А своими у них были ласточки, чахлые деревца и глазастое солнце. Они также остерегались певцов, полагая, что тот, кто может пронзить сердце песней, может достать его и кинжалом. Поэтому, когда они услышали смерть, которая карабкалась по скалам, напевая под звяканье косы, то сильно испугались.
— Мы привыкли жить… — взмолилась старшая из сестёр. — Куда спешить — впереди вечность, дай нам приготовиться…
— И дорога, видать, далека, — поддакнула средняя. — А мы давно никуда не выбирались…
Младшая уставилась единственным глазом, в котором навернулась слеза, сразу сделавшая мир таким же маленьким, как темнота, которую носят в кармане.
— И в самом деле, надо собраться, — согласилась смерть. — Да и срок ещё не вышел…
Сёстры обрадовались, скинув, казалось, полстолетия, оживились, как засохший кактус после нечаянного дождя.
— А чтобы с пустыми руками не возвращаться, — умасливали они смерть, — возьми хоть собаку.
— Не могу, — отказалась та, — у собаки — собачья смерть.
И напоследок сообщила, когда вернётся.
Этим она повернула время вспять, ведь для тех, кто знает час своей смерти, время начинает обратный отсчёт. Теперь оно не ползло улиткой, как это было от рождения, но неслось стремительно, как бегун на финише. Толкая в спину, оно заставляло жадно скалиться вслед упущенному дню, а вместо стакана вина выпивать два.
И старухи изменились. Перевернув время, смерть перевернула их жизнь. В обратном измерении старшая из сестёр оказалась младшей, вскрылись старые обиды, и они на краю могилы стали сводить счёты.
Кончилось тем, что, переругавшись, они стали кликать смерть…
— Незнание своего часа делает нас бессмертными, — подвёл черту Пыкин и принялся раскуривать трубку.
— Смерть изменяет масштабы, — откликнулся Кондратов, — тиран, при жизни огромный, в гробу — как детская кукла.