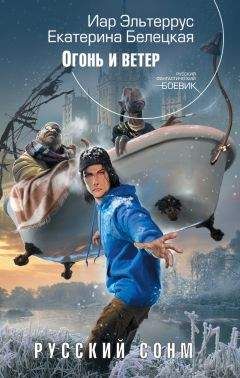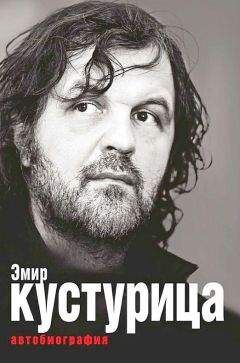Весело тренькнула дверь аптеки. Лоснящийся от ссохшейся грязи посжилой оборванец по-свойски, но величаво, словно царь своему кузену-князю, кивнул Алексею Петровичу, одновременно вознесши и босую ногу (всю в липких земляных комьях), и ветвь с прошлогодними желудями, и соломенную бровь, вдруг залезшую высоко на лоб, распушившись урожайнее фельдъегерских усищ. Носа же не было вовсе (на счастье мне, на счастье, Иеронимушка!). Нищий задумчиво отошёл, как Геракл от кратерной кузни, внезапно озарился воспоминанием, сделал полукруг, навалился плечиком на стеклянное нутро двери; мелко, но ровно нарезанные хлястики его красноватого вретища взвились, а внезапно взвизгнувший в электрическом рупоре дискант с преступной женской хрипотцой принялся ласково увещевать его. Лишь только голос приостанавливал мольбу, слышался новый трезвон, профессионально аккомпанирующий замирающему речитативу, словно органная игра огра (мадьярского? верно, маркиз?), пока Алексей Петрович огибал бензоколонку, — улавливая неевропейские ароматы горючего, — вдоль стенда, где курильщик (в жандармско-студенческом кепи — есть нечто служивое в плакатных персонажах всего света) такой же смачно-синей, как он сам, сигары, длиннее наидлиннейшей из его отсечённых по лодыжки конечностей и перечёркнутый агрессивной «X», напоминал о вреде табака жёлтым груздем с изрядно подгнившей шляпкой, неведомо отчего выросшим на уровне прямой кишки — жуткие пережитки холодной войны!
Снова тот же курчавый яков профиль. На этот раз со стрелкой, целящей вдоль автострады да рогами, напрочь погребёнными шерстью: приозёрные луга оказались, естественно, сочнее. Спесивое Божество подманивало жертву, раздувало, означая место будущего маяка, египетский огонь, жаждуя, в обмен на Mazzolata быка с бёдрами потучнее, окончательной репатриации.
Из качающихся крон зарокотало по-соловьиному с неизвестным ещё акцентом и смолкло, точно птица решила поднакопить сил на новую трель, — в привычном Париже буйная берёза-одиночка его улицы разражалась в предрассветной бледности незримыми певцами (словно оступившийся скалолаз посыпал товарищеские затылки внезапно защебетавшим щебнем), поносящими утекающих негров с зелёными мётлами, да запоздалого (а потому разлагаемого зарёю) Вия-пиццевоза на мопеде при порядочно сдутых шинах, — и утихала лишь встретив дрожью червонного уже плюща рыгающую у светофоров колонну грузовиков, чествующую безоговорочную капитуляцию птичьего гомона, — как pater familias, одолевший в потасовке пьянчужку. И эта внезапно открывшаяся в утренней тиши струя казалась Алексею Петровичу одноцветной с его ночной тайной.
Сосны забагрянились, ставши ещё кондовее — все с одного бока, — точно невызревшие персики детства Алексея Петровича, красневшие потом, обёрнутые в «Известия», над шкафом меж залежами праха, средь которого были и пылинки его, Алексея Петровича, тела (где-то они нынче?!) — а из двойного, со змеиной трещиной на васисдасе стекла ноябрьским хладом напирало самоватое молодецкое уханье столицы Утопии: всё это смешивалось сейчас в утреннем Алексее Петровиче, оседало где-то в ступнях, постепенно избавляющихся от песка блестящими, словно отшлифованными комьями — будто кратеровыми черепками с пыльной луврской полки, на которую только и взглянет осетровыми своими очами, по велению чешуйчатого путеводителя, дисциплинированная японская вуайажорка, прапорщицкой галочкой помечающая место ротного в колонне своих букв — бойцов капоэйры (старшой уж натянул свой лук да стал крикливо высчитывать, призывая после каждой единицы немца — что для Бразилии не удивительно!), — стремясь уже в гермафродитову залу, где бездельничали и тройка заскорузлых кентаврёнков, и Геракл о корявом ослопе, и по кускам склеенный фалангист, у которого Хронос с архилоховым чувством юмора, отгрыз, в пользу кимвров, щит.
Под косматой елью, за тонким смольчаковым кордоном растворилась калитка, вся в малиновых волдырях, и негритянка, подвязавши пепельный пеплос, принялась выметать и без того глянцевые плиты щёткой на светло-голубой многосуставно-бамбуковой рукоятке с выемкой в центре, будто для гусарского седла, — всё это время неотрывно изучая блеклым взором Алексея Петровича да беззвучно шевеля фиолетовыми губами. И каждый скрежет щетины о бетон изумительно совпадал с отроческими эхами пугливого фейерверка, — багряного, аквамаринового, охряного, — всплывавшего комьями в уже непригодные для уранографии выси и подчас принимавшегося сверкать — словно желудочной изжогой — серебряным подбоем. Раскаты шороха (звуковая подштриховка бытия!) отзывались в детских акустических воспоминаниях, совпадая и с его собственной, казалось бы расхлябанной, на самом же деле чёткой поступью, что подспудно оправдывало Алексея Петровича, — в чём и перед кем, он ещё не знал, насилу справляясь с головокружением (точнее, с плавным мироверчением) и наблюдая медленное, но также своеобразно закономерное — строго по периметру! — отпадение с обуви блестящих рассыпчатых пластов в ещё стелящийся по земле мрак. А если белёсый, бесчисленногранный, с серповидной ямочкой, камушек (слепок иной девичьей щеки!) выскакивал из-под подошвы, то происходило это бесшумно, непременно с некоей претензией на кинематографическую фермату, обязательно долгим полукольцом, — голыш замирал (будто тоже выжидая чего-то) в нечёсаной спросонья траве, а Алексей Петрович не мог тотчас не ощутить глубинной тахикардии восемнадцатикаратного сердца (прежде учуянной сноровистым Снорри), вспыхивавшей и в нём призывно, с расстановкой.
Бедро свербело слабее, истекая кровью менее настойчиво, и была некая приятность в прикосновении ткани к шраму — порука скорого выздоровления: Алексей Петрович залечивал раны всемеро быстрее приевшегося хищникам sapiens’а. Континент кружился медленнее, удовлетворённый впервые нащупанным центром, отвоёванным равновесием, пока гроза скрывалась по ту сторону экватора; теперь бушевало поверх отрогов Кордильеров; лама изгибала на дюжину жертвенных лезвий расчитанную шею (чётко виделись пятна на продолговатых под пушком ушах да выпученные, почти инопланетные очи), вопросительно провывая во мглистые от бури небеса название своего рода. И, точно отдаваясь эхом её крика, Алексея Петровича нагоняли и звон расколотой витрины, и завывание сирены, и златой отсвет мигалки на соснах — вопль Мемнона. Мимо, фыркая, проурчала чёрная «Хонда» с расколошмаченной фарой, весело тренькающей мелко битым стеклом, подвешенным словно на многоцветных слюдяных нитях — «Акура» — подметил Алексей Петрович (немецкое богохульничание?!). Снова тишина — сейчас навстречу ему дивно скоро двигался улизнувший с герузии индеец, играя тросточкой (галлы побойчей прячут в таких стилет), надевший для утреннего моциона, поверх сероворотничковой голубой рубахи, бежевый костюм; рябой зелёный галстук контролёров парижского метрополитена мясистым своим узлом метил в самый кадык аборигена; а на коричневой, митрообразной, по самые котиковые брови насаженной шляпе, горело пятно — точная копия Швейцарии с рейнской струйкой, отклоняющейся, ширясь, вверх, до Роттердама, где творилось нечто неладное, словно пивной порт задористо потрошился божественной бомбардировкой — подстать самому пешеходу, удручённому напором неистового тика: уголки рта дёргались неудержимо, под ними стройно белелась зубная керамика, а воловье око его то и дело щурилось, скрываемое веком, изрытым жёлтыми каналами. Каждый сустав индейца был словно шарнирный. Он вертел головой по часовой стрелке, сначала плавно, затем урывками, как бы уворачиваясь от ударов, отчего прыщ на кончике его носа то чернел, то алел, — и лишь только индеец отрывал от земли ногу, она тотчас трепетала, точно притягиваемая трёмя соперничающими сторонами; трость превращалась в клюку, обрастала исчервлённым мохом, спиралилась остролистой жимолостью, выпрастывала с оконечностей, будто секретное оружие, рога, да сама принималась гнуться и дыбиться на разные лады, точно неизвестный понуждал её к каверзным процедурам сагайдачников саг, натягивая, назло произошедшей от обезьяны части человечества, тетиву.
Ещё поворот — вот наконец серый сейчас стенд «Не пей и езжай!». Алексей Петрович ощутил, как в правое ухо, в рёбра, в бедро, навалилось, наконец совладавши с упряжью и измываясь над дегенератствующим Галилеем, Солнце, коему Алексей Петрович улыбнулся, обращая ухмылку также внутрь себя, и избегая, совокупно с курчавым бизоном, глядеть на сверкающий диск.
Гаркнувши по-офицерски, шарахнулся от Алексея Петровича, будто не решаясь вцепиться ему в икру, жёлтый школьный автобус с колоссальным рылом, — так и маскирующийся под позлащённого орангутана, — и долго ещё грозился на швабский манер, несясь по приторной Ferrer street, липовым запахом утверждавшей прусский характер возвращения Алексея Петровича, ещё глубже засунувшего кулаки и костяшкой перста принявшегося бередить тягуче-сладкую рану: словно перчишь персик да закусываешь им угреватый, склизкий со спины «рокфор», сухо рассыпающийся в извинениях за собственную драгоценную гнилость.
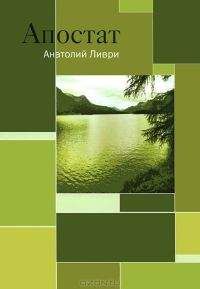
![Анатолий Ливри - Ecce homo[рассказы]](https://cdn.my-library.info/books/116286/116286.jpg)