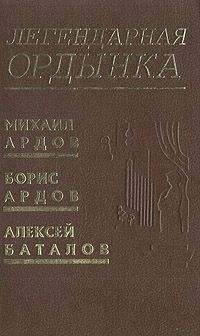— Я где-то вычитал изречение старого доброго короля Дагобера, произнесенное им, когда он был при смерти: «Со всякой хорошей компанией приходится в конце концов расставаться!» При этом он обращался к своим собакам.
Дверь «Гига», частного клуба, закрылась за ними, и они оказались на лестнице, где звуки цыганского хора и бубнов, доносящиеся из «Царевича», тотчас заменили ритмы поп-музыки.
— Можно было бы поехать на лифте, — прозаически заметил Арам, думая о трех этажах, которые нужно преодолеть до вестибюля «Ласнера».
— А зачем? — возразил Орландо. — Разве мы не в форме? Можно и повторить. Осень в Пирее, это вам что-нибудь говорит? — Откуда я извлек это?.. Ладно, это из нее, из жизни. Ты знаешь такую дефиницию Биша: «Жизнь — это совокупность функций, которые сопротивляются смерти».
В этот вечер это слово возникло в их разговорах впервые. Сначала в связи с Дагобером, а теперь с этим… Биша. Первое имя напомнило Араму одну песенку, второе не ассоциировалось ни с чем, разве что с больницей.
Холл был пуст. Прозрачные панели, заменившие дверной тамбур, расступились перед ним. Арам наполнил легкие запахом тишины и ночи. Орландо стал ждать, пока подадут его машину.
— Значит, я буду в Лондоне раньше тебя и, возможно, встречу там Дорию… Госпожа Дория Изадора Робертсон в огнях своей великой премьеры. Как она поживает? В последний раз я ее видел мельком здесь, на берегу, в «Библосе»; она заказала себе бифштекс-шароле. Великолепна, по-прежнему великолепна. Сколько уже времени… между вами?.. Знаешь, здесь ведь все еще говорят… но, может, это импресарио Дории Изадоры распускает такие слухи… что именно из-за нее ты оставил свои…
Он не закончил фразы. Портье подогнал машину к подъезду, не глуша мотора. Теперь Орландо, похоже, торопился вернуться домой.
— Значит, — сказал он, — увидимся через неделю. Скажем, в понедельник. Или лучше во вторник. В то же время. А пока спокойно отдыхай. Все прекрасно, старина. Кстати, это был хороший повод увидеться. Правильно сделал, что приехал. Ведь ты же любишь наши места.
Он уже сел за руль.
— Следующий раз, не забудь, ты мне расскажешь про того типа из Гштада… Что до остального, делай что хочешь., все, как ты привык… а если что не так, примешь эту штуковину, что я тебе дал. Но не много. Одну дозу, не больше.
Когда Арам возвращался через холл к лифту, дежурный в регистратуре сказал, что ему звонили из Лондона и что перезвонят через полчаса. Он поблагодарил и поднялся к себе ждать звонка от Дории…
Конечно, он бы предпочел забраться под одеяло, а не крутиться вокруг постели в ожидании этого звонка. Как, интересно, Дория всегда умудряется, где бы он ни был — на ледяном припае или под противомоскитной сеткой, — разбить ему ночь? И при этом непонятно: во имя чего? Разве что для нее это определенный способ быть постоянно в контакте и знать, вернулся он домой или все еще где-то бродит; способ получить информацию, один он или с кем-то?
В эту ночь все происходило несколько иначе. Когда он позвонил в лондонский «Ласнер» из Нью-Йорка, ее не оказалось на месте, и он попросил передать г-же Робертсон свои сожаления и объяснить в общих чертах, что заставило его изменить маршрут. Хотя она, должно быть, находится на грани нервного срыва при мысли, что ее фильм может потерпеть фиаско, она все же не может не желать получить какие-нибудь дополнительные объяснения о таком изменении маршрута. Конечно, до сих пор он не давал ей оснований думать, что у него тоже может быть головокружение, мигрень, несварение желудка. Поэтому ей трудно понять, как это он мог ускользнуть, убежать, оставить ее одну лицом к лицу с этой враждебной и льстивой сворой, раздваивающейся между раболепием и желанием кинуть ее в костер. Предлог, шитый белыми нитками, этот крюк через Швейцарию! Не хотел ли он уклониться от присутствия на премьере фильма? Не было ли у него в постели в самый этот момент какой-нибудь девки, к примеру студентки из Техаса, приехавшей посетить Европу ten dollars a day?[28] И что это за девка?.. Пусть он не надеется, что ему все так легко сойдет! Вот в таком приблизительном тоне. А то о чем бы им еще говорить?..
Если Дория звонила ему в этот час, — когда в Лондоне все продюсеры, прокатчики, журналисты, организаторы спектаклей уже в основном спали и не должны были пытаться ей дозвониться, — то, значит, только для того, чтобы разоблачить его липовый предлог, его туманное оправдание и чтобы сказать ему в глаза ту правду, которую он, следуя их негласной договоренности, никогда бы и не подумал, случись что-либо подобное действительно, от нее скрывать. Как, впрочем, и она тоже. Сейчас, правда, у нее были другие заботы. Да к тому же она была не одна: рядом с ней находился ее, как она его называла, «ливанский муж», заинтересованный в судьбе этих катушек еще и потому, что вложил в них кучу денег, если не из своего кошелька, то из мобилизованных им чужих капиталов.
Дория не любила, когда ей говорили о Хасене как о муже. Компаньон, не больше. Она встретила его еще в те времена, когда сражалась в underground[29] кинематографе, как в катакомбах какой-нибудь новой цивилизации, рисковавшей так навсегда и остаться в подземелье. Именно ему она обязана финансированием самых первых съемок. При этом результаты оказались не слишком обнадеживающими. А теперь, когда будущее выглядело более лучезарным, ей не было никакого резона «расставаться с золотым тельцом».
А кроме того, Хасен должен был вот-вот покинуть сей мир в облаке гашиша. Так нагадала ей одна предсказательница, и она делала вид, что этому верит. Этой историей она терзала Араму уши уже больше года.
Что касается моральной поддержки и способности укрепить ее психику, то здесь Хасен приравнивался ею к нулю. А если во время их телефонных разговоров Арам вдруг выражал притворную веру в такую поддержку, то ему приходилось выслушивать, что между нею и этим мешком с миллионами вообще никогда ничего не было и что, с другой стороны, — и об этом знал весь кинематографический мир — даже тогда, когда он был еще на что-то способен, его интересовали только мальчики.
На что Арам, чтобы поддержать беседу, не упускал случая заметить, что уж ему-то это известно лучше, чем кому бы то ни было, поскольку он сам был объектом его внимания в ту пору, когда работал в chess club Бронкса, где разносил пиво и разную отвратительную еду между столиками с сидевшими за шахматными досками игроками. Он, Хасен, тоже приходил в этот клуб и оказался одним из первых его supporters. К тому же именно благодаря ему, благодаря этому несчастному Хасену, о котором Дория не переставая злословила, они и познакомились спустя несколько лет. Разве она забыла?
Это воспоминание их тотчас примиряло. К счастью для них, счет за переговоры поступал на коммутатор отеля. Им казалось совершенно естественным, что их диалоги ведутся вот так, на огромном расстоянии, и не стоят им ни цента, ни сантима, ни лиры, ни сотой доли эскудо. Однако этой ночью — хотя схема была уже отработана вплоть до мельчайших деталей — звонок заставлял себя ждать.
Его взгляд упал на номер журнала «Гостеприимство», издаваемого концерном и распространяемого во всех его отелях, лежащий на мраморной доске сооружения из хрома и плексигласа, между телефоном и пепельницей, где на матовом фоне выделялись первые буквы названия отеля под птичьим профилем. Что касается этой эмблемы, то было трудно с уверенностью сказать, сокол это или же орел. Один годился для Египта и Аравийского полуострова, а другой мог сойти для Америки, а также — из-за Альп — для Швейцарии. Из всех возможных моделей, представленных Тобиасу для окончательного выбора, он отклонил изображения гренландского белого сокола, скандинавского кречета и азорского коршуна на том основании, что ареалы этих птиц, способных украсить флаг, никогда не принадлежали к освоенному концерном региону. Можно лишь гадать относительно мотивировки окончательного решения. Амулет, талисман, идеограмма, нечто соизмеримое с завоевательскими амбициями, которые позволили таким людям, как фон Пфиффер, фон Альтисхоффен, Цезарь Риц, Шарль Баэлер в Африке, Сэмюэл Шеферд в Египте, Тобиас, в разных уголках мира распространить свое господство и свое влияние.
Ожидание затягивалось. Арам взял журнал и рухнул в одно из кресел, обитых суровым полотном, которое сразу же его облегло, словно обняло огромной сложенной ладонью.
Эти тридцать страниц на глянцевой бумаге отвечали политике престижности, которая долгое время приносила свои плоды. На названии настоял Тобиас. Да и разве не подходило оно, чтобы стать символом веры? Marketing[30] в его новых формах, новые порядки в гостиничном деле, диктуемые вселенским размахом современного туризма, сделали это название несколько анахроничным. Арам не преминул бы сказать об этом управляющим, коммерческим директорам концерна, если бы он присутствовал на их собраниях, а не ограничивался бы передачей своих полномочий. Он считал эту брошюрку дорогостоящей, бесполезной и немного смешной. Однако ничего другого у него под рукой не оказалось. Он настолько привык везде, от Шенона до Бангкока, сталкиваться с этим тоскливым фотографическим воплощением комфорта, гастрономии, спортивных, фольклорных или каких-либо еще ресурсов, что первым делом обычно отправлял его в корзину. Однако сейчас обстоятельства побуждали его взглянуть на вещи повнимательнее. Еще никогда упомянутое название, на этот раз выделяющееся на фоне пестрой, яркой панорамы, виднеющейся сквозь ветку цветущего вишневого дерева, не казалось ему столь лживым, столь устарелым, как сейчас.