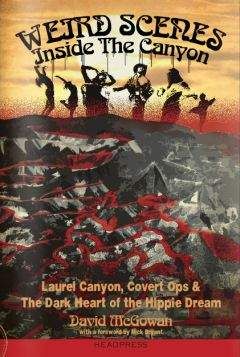— Мама? Кому?
— Нет, Жанна сказала. Или мама.
Мы переглянулись: что-то происходило. С того дня, как арестовали банковский счет, Дашка снова, как во времена беременности, сияла приветливой улыбкой. Она решила, что должна полагаться только на себя. Мы догадывались, что она попыталась вытрясти деньги с подонка, который их подвел, и у нее ничего не получилось. Фима чувствовал себя виноватым перед компаньоншей и по-собачьи смотрел ей в глаза. Жанна и раньше ревновала мужа к Дашке, теперь же сходила с ума, с нежной улыбочкой говорила Дашке гадости и пыталась заразить своей ревностью Колю. Тот оставался невозмутимым, но я заметил, что он стал сдержанным со мной, и это был плохой признак. А ведь Дашка и Фима продолжали вместе работать…
Фима поднялся по лестнице, деликатно кашлянул:
— Можно к вам?
Гай бросился на него с мечом:
— Я Цавая Нендзя!…
Фима сделал стойку, защищался, Гай лупил его со всей силы, и нам с Ирой почудилась в этом скрытая злобность. Все могло быть. Гай не мог не проникнуться настроением взрослых.
— Гай, успокойся, — строго сказала Ира.
— Дашка будет на кладбище? — спросил Фима.
Мы пожали плечами. Фима сказал:
— Я отвезу вас.
— А кто с детьми?
— Я Инну попросил.
Инной звали одну из воспитательниц. Дашка уволила ее накануне: две с половиной тысячи шекелей в месяц — это для нас большая экономия. Инна держалась за свою работу, как никто другой: пятилетний Давидик всегда был при ней. До этого она лишилась пособия по бедности, потому что не смогла пробиться к двери сквозь толпу настырных баб, когда выкрикнули ее фамилию. Мы все ее любили. Когда Фима узнал, что Дашка ее уволила, он попытался отстоять:
— Я считаю, если уж увольнять, то Шоши, у нее муж работает.
— Шоши мы не можем уволить, — сказала Дашка. — Она живет на нашей улице, все будут против нас.
Спорить с Дашкой Фима не умел, и Инна работала последний день. Мы попросили ее последить за Гаем.
Кладбище расположено на холме, его обдувает сильный бриз, с аллей открывается вид на белый город под ярким солнцем. Мы шли вниз по склону, туда, где уже толпились люди у свежей могилы. Нас обогнали два парня с видеокамерой, и тот, что нес ее, сказал другому:
— Отличный план, лучше не придумаешь. Возьми панораму города, с нее выйдешь на мать, когда я кончу говорить — дашь обратную на город.
Навстречу бежал несуразный человек с молитвенником под мышкой. Несуразность заключалась в фигуре с женским задом и покатыми плечами. Они переходили в шею незаметно, как у пингвина. Что-то дегенеративное было в лице, озаренном радостью. Сзади нас выносили из молельной Ицика, человек спешил присоединиться к процессии, боялся опоздать на праздник смерти. Его невозможно было не узнать: это он однажды ворвался в нашу калитку…
Надо, наверно, рассказать и это. Никогда не позволял себе работать в субботу — из уважения к Ноэми и Якову. Было очень нужно, день пропадал, а я не мог стуком или грохотом нарушить субботний покой. Как-то Яков и Ноэми уехали отдыхать, воскресным утром должны были прийти штукатуры, которым требовался помост, и в вечер наступления субботы я, очень торопясь, прибивал последние доски, зная, что не оскорбляю этим отсутствующих соседей. Оставалось вбить два или три гвоздя, когда в калитку ворвался малый в кипе. Он подлетел и начал кричать, забрызгивая меня слюной. Опустив руку с молотком, я пытался извиниться и сказать ему, что кончил работу. Он был невменяем, теснил меня грудью, орал, не давал раскрыть рта. Лишенный возможности объясниться, я заразился этой невменяемостью, толкнул его, ворвавшегося в мой двор, и тогда он, осознав, что дерется в субботу, в полном отчаянии от своего греха упал на колени, опустил руки, подставил голову и кричал: «Ударь меня! Ударь эту глупую голову!». И это заставило меня осознать вину. Люди тысячелетиями работали тут, не нарушая заповедей, и им хватило времени построить свою страну. Ее разрушали, они снова ее строили, снова проходили тысячелетия, что ж мне каких-то четверти часа не хватило?
Кладбищенские рабочие торопливо выкидывали наверх землю, и согласованные движения двух лопат напомнили давнее. Мы еще не вселились в наш дом, делали фундамент для новой кухни, братья работали, подошел Яков, что-то ему не понравилось, он спрыгнул в котлован, показывал, Ицик, сморщив лоб, пытался понять, чем недоволен отец, наконец понял, и лицо просияло от этого понимания. Я так живо все это увидел, что усилие Ицика понять передалось мне, я что-то понял, как тогда на стройке понял он. Я не знал, что я понял, но это не имело значения.
Нас окружили люди. Я видел Якова и Ноэми. Видел четырех братьев Ицика. Ира вытащила из сумочки кипу и надела мне на голову. Читали молитву, я увидел в толпе Таню, дочь Фимы и Жанны. Они с Ициком служили в Ливане в одно время, приезжали на его «пунто» на конец недели. Однажды, когда вся семья шла на субботнюю молитву в синагогу, Таня прошла по улице навстречу им в короткой юбочке — не все ж Ицику видеть ее в военной форме. Она оказалась перед ним как бы случайно, но я-то видел, каким торжеством сияли ее глаза, когда, миновав соседей, она вошла в нашу калитку. Теперь глаза были красными.
Телевизионщики со своей техникой, потеснив раввина, совали микрофон в лицо Ноэми. Она послушно произнесла несколько простых фраз — Ицик был хорошим и справедливым человеком, хорошим братом и сыном, он собирался учиться в университете… Мы с Ирой встретились взглядами: зачем Ноэми говорит эти ненужные слова, похожие на чтение по шпаргалке? Может быть, это привычка верующих, с детства выражающих чувства в чтении молитв, обязательных для всех, будто чувства принадлежат не человеку, а народу. А ведь это так и есть, хоть избываем мы их каждый порознь. Ноэми замолчала — оператор сделал медленную панораму с ее лица на белый город под голубым небом.
Мы пошли к воротам, толпа растеклась на ручейки между надгробиями, мы положили по камню на черную гранитную плиту Векслера. Цветы тут не принято приносить, люди должны покоиться лишь под камнями, как их предки на каменистой этой земле, которую не берет заступ, тысячелетия назад просто придавленные валунами, чтобы не потревожили враждебные племена, стервятники и злые духи. Когда-то на плите Векслера я нашел придавленную камнем записку Лилечки. Наверно, Лилечка, зная, что у Стены Плача оставляют записки, решила, что можно и так тоже, ее Стена Плача — здесь. Она положила письмецо в мае, возвращаясь в Москву, я нашел записку в конце лета, буквы все выгорели.
12. Международный семинар памяти Векслера
Я позвонил Илье, желчному малому, с которым на похоронах Векслера меня познакомили Штильман и Володя. Тогда речь шла об архиве великого математика — папках, тетрадках и дискетах. Это все казалось безумно важным, Штильман возглавил специальную комиссию, изучающую наследие, Лилечка опасалась, что кто-нибудь присвоит себе работы мужа, и однажды я целую ночь помогал ей наводить порядок, записывать на дискеты компьютерные файлы и разбирать записи на полях распечаток. А потом все исчезли, и приехал этот Илья, раздраженный тем, что его заставили делать чужую работу. Посидел часа два за компьютером, полистал бумаги, остался ими недоволен, но что-то отобрал и вместе с десятком дискет сложил в папку. Лилечка пыталась выяснить его планы, он пробурчал в ответ что-то невнятное, взяв папку, уехал и больше не показывался. Лилечка звонила ему, Штильману, Володе в Германию и отказывалась верить очевидному: то, на что Векслер потратил последние годы жизни, то, чему она приносила жертвы, было никому не нужно. По ее просьбе я тоже позвонил Илье. Он сказал: «Чего она хочет? Я все сдал в университетский архив. Будет там лежать, сколько положено, потом спишут. Это все вообще не математика». — «А что это?» — «Я знаю? Пространство, время, нуль, бесконечность…» Он сказал это пренебрежительно, словно подчеркивая, что речь идет о старческой причуде Векслера.
И вот, вернувшись домой с похорон Ицика, я позвонил этому Илье: на семинар приехали ученики и друзья Григория Соломоновича, неужели никому из них не интересна многолетняя его работа? Вдова оставила мне материалы… Разговаривал Илья по телефону нетерпеливо и хамски, но я решил не обращать на это внимания, и он наконец согласился встретиться на следующий день у входа в кампус математического факультета.
Как я и думал, он не пришел в назначенное им самим время. Я ждал на нежно-зеленой лужайке перед кампусом. На траве, как в американских колледжах, валялись студенты с книжками. В центре лужайки красовалась модернистская статуя, справа возвышался, как храм, Музей Диаспоры.
Лужайку пересекал, шаркая волосатыми ногами в сандалиях, толстяк в темной майке и шортах. Он ел на ходу питу с шуармой, неся ее перед собой в правой руке, потом помогал левой, чтобы поднести к лицу, и вгрызался, стараясь захватить одновременно и овощи, и мясо, и тесто. Губы и щеки блестели жиром. Курчавые волосы слиплись от пота. Человек внезапно остановился, переложил питу из одной руки в другую и почесал толстую ногу. Его отвлекла пробегающая кошка, и он замер, скособоченный, с полуоткрытым ртом. Распрямился, впился губами в питу и пошел, поглощенный едой, не имея привычки проверять себя сторонним взглядом, не зная, что это такое. Шаркая, он поднялся по мраморным ступеням и исчез за дверью математического кампуса.