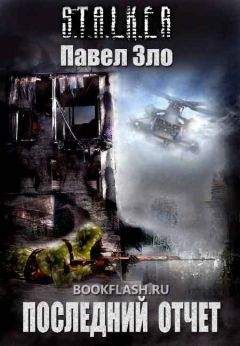Бах! Бах-ба-бах, бах, ба-ба-ба-бах!
Рухнул волк замертво, даже удивиться не успел – какие это наглецы посмели на него, царя лесного, стволы поднять. Псы охотничьи, слуги верные, уж на что раньше людей в охоте разуверились, и те с остервенением вцепились в волчару убитого, стали его, еще кровью и паром исходящего, на куски раздирать.
И был праздник в деревне, и пили люди, и ели, и плясали семь дней и семь ночей во славу храбрецов-охотников. И сделали столб высоченный, и подвесили на самый верх его тушу волчью – для острастки, чтобы каждый зверь лесной обходил деревню стороной, подобру-поздорову.
А что же шакал? Как засвистели над головой его шакальей пули, припустился он с перепугу, да куда глаза глядят. И мчался, не оглядываясь, пока слышались крики охотников, да лай собак. А как стихло все, отдышался шакал, облизал бока да спину распрямил, сообразив: а ведь теперь я, шакал, и есть царь лесной. И все белки мои, и зайцы, и фазаны. Да не кишки, не головы, и не перья только. Мясо! Мясо нежное, горячее, свежей кровью брызжущее. А то, глядишь, и до кабана доберусь.
Так думал шакал своей головой шакальей, и сердце его радостно трепыхало, воспылав благодарностью к людям с ружьями – освободителям от ига волчьего. Это ж надо, всю жизнь падалью побирался, не мог успокоиться шакал, дрожа от ненависти к убитому зверюге.
Ох, теперь-то наемся, ох и от брюха, нетерпеливо думал шакал, завидев трусящего по лесу зайца. Припустился за косым – да куда там! Только пошел плутать за зайцем меж деревьями, как вдруг – шмяк носом. Пенек!
Лежит шакал в траве, лапой подергивает, глазами помаргивает, вместо морды у него сплошная рана кровавая. Лежит, собирает вылетевшие из головы мысли шакальи. Что за заяц такой попался, думает шакал, такой и волку, небось, не по зубам. Поскулил он, нос разбитый зализывая, как вдруг видит – бельчонок. Крохотный, несмышленый. Ладно, решил шакал, шут с ним, что мясо мало, потом найду и пожирнее. Главное – весь лес мой! Кого поймаю, того и заломаю! Кого захочу, того и проглочу! А начну с бельчонка малого, бельчонка несмышленого. Поплатится за свою глупость, да что поделать – есть смерть как охота! Подкрался шакал к бельчонку, да как прыгнет! Шмяк о сосну, а бельчонок уже на ней, на ветке покачивается, да на шакала скулящего испуганно поглядывает.
Ох и больно! Ох и напасть-то! Ворочается шакал под сосной, траву подминает, да криком горьким лес оглашает. Скулит так, что все звери лесные затихли, да попрятались: мало ли что, думают, кабы и с нами какой беды не стряслось.
А через месяц зашевелились, захрюкали заросли лесного шиповника – то кабан дикий пришел спелыми ягодами полакомиться. Ест кабан жадно, чавкает так, что далеко слыхать, – по вкусу ему ягоды лесные. Как вдруг: уииии-уиииии-уииииии!!! Завизжал кабан, и пустился наутек, бежать со всех лап своих кабаньих.
Смерти заглянул кабан в глаза и с тех пор обходил стороной кусты шиповника, чтобы вновь не увидеть то, что от страха чуть не разодрало сердце его кабанье – пасть шакалью, щелкнувшую зубами перед самым пятаком.
Не узнал кабан и никто из животных лесных и людей деревенских, что в самый последний раз клацнул тогда шакал зубами и издох окончательно, там же, под кустом шиповника, исхудавший и измученный, проклявший охотников метких, зверье резвое, неподатливое, да судьбу свою шакалью несчастливую.
Так давно, но не давным, уже не в Богдании, но еще и не в Бессарабии, одним словом там, где рай небесный соединяется с адом кромешным, исчезли и волки, и шакалы.
И с тех пор исчез страх из сердец молдаван и в лес они и по сей день ходят не с ружьями, а с бочонком доброго вина – отдохнуть от трудов праведных.
А если и встретят какую-нибудь зверушку – так и на ту как на чудо заморское глядят. Будь то заяц косой, белка пушистая, а то и фазан с радугой вместо хвоста.
Вот как выглядело крушение мироздания
Перед домом ее ожидали вестники беды. Их было двое, мужчина и женщина, и первого Пэт знала по имени. Его звали Джимми Крайтоном, он был молод, высок и застенчиво розовощек, и все соседки расплывались в улыбках, стоило ему начать патрулирование вверенного полицейским управлением Нориджа района в качестве участкового констебля. Он, полицейский, формально был первым номером в паре, но выглядел непривычно растерянным, настолько, что даже его всегда пылающие щеки побледнели и будто ввалились. Его спутница не замедлила перетянуть лидерство на себя. Первой сделала шаг навстречу Пэт, первой протянула ей руку и представилась.
Пэт даже не удивилась, узнав, что женщина – психолог: могло ли существовать более точное предсказание скорого горя, чем одновременное появление у дома полицейского и психолога?
Ее ладонь задержалась в руке женщины, но констебль уже справился с волнением —возможно, не надолго, но достаточно для того, чтобы исполнить долг. Сообщить сбивающую с ног новость.
– Понимаешь, Пэт…
– Мне так жаль, Пэт…
– Твои родители, Пэт.
Он перебирал обрывки заготовленные фраз, которые так и не сумел смотать в трагический клубок.
– Боюсь, случилось непоправимое, – выпалил он наконец.
– Мужайтесь, мисс Беннетт, – добавила психолог и положила ладонь на плечо Пэт.
– Не надо, прошу вас, – дернулась плечом Пэт. – Я в порядке. Я все поняла, как только увидела вас.
– Вы уверена, мисс Беннетт? – рука психолога плавно съехала с ее плеча на предплечье, и Пэт подумала, что почасовое содержание психолога, должно быть, чертовски дорогое удовольствие для государственного бюджета. А может, подобные услуги покрываются медицинской страховкой?
– Я правда в порядке, – сказала Пэт. – И мне не нужен психолог. Могу я побыть одна?
– Радостно слышать, мисс Беннетт, – психолог не переставала поглаживать руку Пэт, а ее взгляд цеплялся за черты лица подопечной, она словно гадала по форме носа, по узору губ и разрезу глаз, то ли выискивая признаки обмана, то ли надеясь на подтверждение искренности.
– Я побуду с ней, – вмешался констель Крайтон, и Пэт почувствовала облегчение: с ее предплечья свалилось бремя чужой официальной руки.
Психолог тоже не выглядела проигравшей. Уступив в схватке с неконтактным клиентом, она нашла разумный выход: доверила Пэт представителю власти, шансы на контакт с которым существенно выше. По крайней мере, будет кому вызвать скорую помощь.
– Я побуду, – повторил констебль, и, должно быть, впервые удостоился улыбки от своей спутницы.
На вид психологу было чуть за тридцать, у нее были средней длины каштановые волосы и обручальное кольцо на правой руке, и Пэт даже в этих обстоятельствах было любопытно наблюдать, как из машины по производству гипнотизирующих интонаций она превращается в взолнованную женщину, сходящую с ума от такого пустяка как необходимость убить внезапно освободившееся рабочее время. Профессия должна была научить ее делать быстрые и правильные выводы из имеющихся вводных данных. Возможно, сейчас она рассчитывала, что будет, если к двум-трем освободившимся и при этом оплаченным часам прибавить всегда готового на подвиги любовника и при этом вычесть занятого как обычно допоздна мужа. Волнительное уравнение, не так ли? Достаточно волнительное, чтобы заставить ее часто-часто стучать каблуками о тротуар в конце Хилл-Хаус-роуд, там, где разволновавшаяся дипломированный специалист в психологии, жалея об отпущенной машине, переходит на бег – лишь бы поскорее поймать такси в этой дыре на окраине города.
В доме Пэт разрыдалась. Ну как, разрыдалась? Собственно рыданий, всхлипов и даже шмыганий носом – ничего этого не было. Просто слезы заливали ей щеки, совсем как дождь в Мертоне в прошлую среду, когда ей посчастливилось попасть под ливень, не дойдя и двух минут до остановки автобуса. Вот и сейчас у нее были мокрые щеки, и, как и в Мертоне, она ничего не могла поделать, хотя не припоминала случая, чтобы кто-нибудь из посторонних хотя бы однажды за все двадцать два года жизни становился свидетелем ее слабости. Даже при родителях она не плакала, в осознанном возрасте – уж точно.

![Сергей Дигол - Старость шакала[СИ]](https://cdn.my-library.info/books/no-image-mybooks-club.jpg)