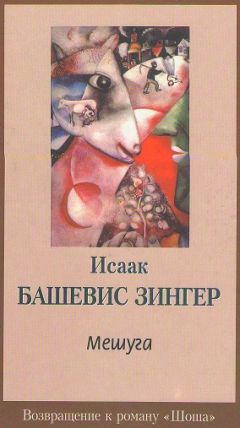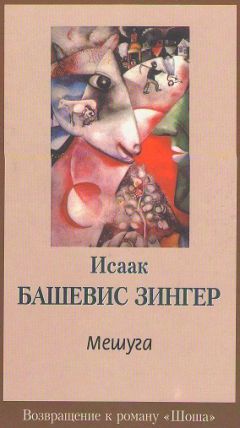— Любовь не спрашивает о смысле, — сказал я.
— Но что она в нем находит? По мне он отвратителен.
— Она смотрит на него своими глазами, а не вашими.
— Вам легко говорить. У вас нет ни жены, ни дочери.
Я с трудом понял, что мы переехали Бруклинский мост, и автомобиль Морриса Залкинда двигается по направлению к Кони-Айленду. Я не видел Кони-Айленд несколько лет. Мы проехали Шипсхед-Бэй, Брайтон и выехали на Сарф-авеню. Это был все тот же Кони-Айленд, и все же были заметны некоторые изменения — появилось много новых домов. Только шум и суета, и солнечные пляжи, заполненные купающимися, были прежними. Я прикинул, что мальчики и девочки, которые резвились в океане, когда я жил в этих местах, стали теперь взрослыми, и что полуголые загорелые юноши, игравшие там теперь, были, вероятно, их детьми. Однако их лица были точно такими же — сверкающие глаза, выражающие безумную жажду удовольствий и готовность заполучить их любой ценой. Один парень нес на плечах девушку. Она держалась за его кудри, лизала вафельную трубочку мороженого и смеялась торжествующим смехом юности. Низко над водой пролетали самолеты, рекламировавшие продукты, но слово «кошер» можно было заметить редко. На скамьях вдоль бордвока[115] сидели, опираясь на трости, разговаривая и споря, старики.
— Я хочу задать вопрос, — сказал Моррис Залкинд, — но не обижайтесь. Вы не обязаны отвечать. С моей стороны это просто любопытство.
— Что вы хотите спросить?
— Какого рода отношения у вас с моей дочерью? Я понимаю, что она очарована вашими произведениями. Но вы лет на двадцать старше Мириам. И во-вторых, если у нее уже есть этот старый идиот Макс, какова ваша роль в этом романе?
— Ваша дочь обаятельна, умна, эрудирована и обладает редкостным пониманием литературы; она изумительная девушка.
— Отцу приятно слышать такую высокую оценку своей дочери. Но я уже говорил вам, что эмигрантский Нью-Йорк — это маленькое еврейское местечко, и сплетни его главное занятие. Согласно им, у Мириам два любовника, Макс Абердам и вы. Я не могу этому поверить. Зачем ей два старика? Простите, что я так говорю. Мне самому уже больше пятидесяти. Но для девушки в возрасте Мириам вы отнюдь не юноша. Если то, что я сказал вам сейчас, правда, то это абсолютное безумие.
— Это неправда.
— И вдобавок, у нее есть муж. Конечно, она не живет с ним, но пока он не хочет с ней разводиться. Очевидно, он как сумасшедший влюблен в нее, но он шляется повсюду с револьвером и признался кому-то по секрету, что готов убить нас всех — ее, меня, Макса и, кто знает, кого еще? Я проинформировал полицию о его угрозах. Зачем человеку с вашим интеллектом быть замешанным в этих интригах и скандалах?
— Мы познакомились с Мириам, когда она прочла мне часть своей диссертации обо мне, — сказал я, с трудом произнося слова, так у меня пересохло во рту.
— Это я, конечно, могу понять, но провести с ней ночь — кое-что иное. Мне определенно известно, что вы провели ночь в ее квартире. Один из жильцов ее дома, мой клиент, видел, как вы выходили из дома в пять часов утра. Когда он рассказал мне то, что он видел, это было как пощечина. Я хочу быть с вами совершенно откровенным. Если ваши с Мириам отношения серьезны, и вы оба пришли к определенному взаимопониманию, то никто не был бы более счастлив, чем я. Правда, евреи не делают своих писателей богатыми, но я вижу, что вы уже появляетесь на английском. Вы происходите из хорошей семьи, и это было бы честью для всех нас. Моя собственная жизнь не дает мне права поучать вас, но отец есть отец. Зайдем, выпьем по чашечке кофе. Каков бы ни был ваш ответ, мы останемся друзьями. Вот и ресторан!
Мы сели за столик, и официант принес нам лимонад и булочки. Любопытно, но, когда я непроизвольно назвал его Максом, Моррис Залкинд улыбнулся.
— Я Моррис, а не Макс. Понятно, что он способен обманывать женщин, даже мою дочь. Но чтобы он сумел окрутить вас — мне трудно поверить.
— У него есть обаяние.
— В чем его обаяние — в лести, угодливости?
— Можете назвать это и так. У него талант говорить нечто приятное любому человеку.
— И потом выманивать у него деньги?
— Он никогда не надувал меня, равно как и вашу дочь.
— Вот тут вы ошибаетесь. Я дал моей дочери пять тысяч долларов, а он купил для нее акции на имя своего нечестного агента, который теперь мертв. Мириам никогда не увидит из них ни цента.
— Я не знал об этом.
— Вы еще многого не знаете.
Мы долго разговаривали. Моррис Залкинд сказал:
— Теперь не принято давать приданое, особенно в Америке. Но поскольку Мириам — моя единственная дочь, я готов дать хорошее приданое, не меньше двадцати тысяч долларов. В самом деле, все, что мне принадлежит, ее. Я даже готов подарить вам дом, чтобы вы могли спокойно заниматься литературным трудом. Дайте мне ответ, ясный и честный.
Я почувствовал, как мою шею и голову обдало жаром, а губы произнесли словно сами по себе:
— Это зависит от нее. Если она согласна, так и будет.
— Это серьезно? — спросил Моррис Залкинд.
— Да, серьезно.
— Что же, это для меня исторический день. Она согласится, согласится. Мириам вас обожает. Мы вырвем развод из Стенли — не мытьем, так катаньем.
— Я слышал, вы сейчас живете с художницей, — сказал я.
— Да, да, да. Линда. Она подписывается Линда Мак Брайд — фамилия ее мужа была Мак Брайд, — но она еврейка из Галиции. Одному быть плохо. У нашего народа есть поговорка: «Одинокий — это никто». Я вам правду скажу. Я не понимаю ее стихов. Она также пишет картины, и я не понимаю ее картин. Да, мы живем вместе, Линда и я. Но разводиться с моей женой и жениться на Линде — этого делать я не собираюсь. Ешьте, не оставляйте на тарелке.
— Спасибо. Я не могу есть так много.
— Может быть, вы хотите посмотреть Си Гейт? Ведь вы как-то жили там.
— Откуда вы узнали?
— От вас. Вы пишете об этом, а потом забываете. Но мы, читатели, помним. Официант!
Моррис Залкинд рассчитался с официантом. Я хотел заплатить за себя, но Залкинд не пожелал об этом даже слышать. Мы снова сели в машину. Я сказал ему, что хотел бы разыскать дом, в котором я когда-то жил. Дом, в котором снимали комнаты еврейские журналисты и писатели, которых я знал, был снесен. На его месте стоял отель. Но мне хотелось посмотреть, существует ли еще здание с двумя деревянными колоннами у входа, в котором жил мой брат. Однако оказалось, что оно тоже было снесено.
Мы пешком направились к морю, и Моррис Залкинд внезапно взял меня за руку. Отеческое тепло струилось из его руки, и чувство, похожее на любовь, пробуждалось во мне по отношению к человеку, который хотел отдать мне в жены свою дочь. На меня это произвело впечатление еще потому, что сам он был похож на Макса (не физически, конечно, а духовно). Мы стояли у парапета, и Моррис Залкинд сказал:
— Посмотрите на этот песок и эти раковины — им миллионы лет. Я читал, что в тех местах, которые нам известны, как Африка, когда-то был Северный полюс — во всяком случае, холодные края. А там, где сейчас постоянные холода, находят следы пальм и тропических лесов. Когда-нибудь мир перевернется вверх ногами, и, возможно, все повторится — кто знает? До тех пор пока ты дышишь, ты должен думать о такхлес[116] для себя и для своих детей. Чего хочет Бог? Должно быть, того, чего Он пожелает.
Как ни мал был мой мир, он был полон волнений. Неожиданно я услышал, что Матильда Трейбитчер умерла. Это случилось в самолете, летевшем в Швейцарию. Заболев в Варшаве, она отказалась лечь в больницу. Хаим Джоел Трейбитчер, который прилетел в Польшу, чтобы быть у постели больной жены, летел в Швейцарию вместе с ней и Максом, когда она умерла.
Макс послал из Швейцарии телеграмму Мириам. Мириам ответила длиннющей телеграммой, которая наверняка обошлась ей в сотню долларов. Она заверяла Макса, что мы с ней преданы ему, что мы скучаем по нему и что все остается по-прежнему. Мы оба собирались лететь, как только получим от него какую-нибудь весточку. Я предупредил своего редактора, что беру отпуск. Газета должна была мне не один отпуск, а несколько. В сущности, я работал круглый год, посылал статьи, не выставляя счета, никогда не отказывался представить материал, даже когда болел гриппом. Я публиковал в газете роман и не мог, да и не хотел, уходить из нее, пока роман не будет закончен.
Часть дня и все ночи я проводил с Мириам. Впервые за свою литературную карьеру я диктовал некоторые журналистские статьи и даже художественные сочинения. Мириам создала для себя что-то вроде идишистской стенографии. Она печатала на машинке на идише с необыкновенной быстротой. Я обсуждал с ней темы различных статей, и мы вместе составляли планы оставшихся глав моего романа — его последней трети. Убедительность ее советов была поразительна.