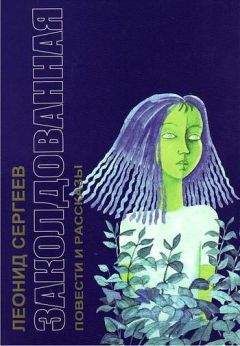В тот день я притащил в класс обычные куски вара. Ни на кого они не произвели особого впечатления, но Ялинского привели в восторг (он был коллекционер — постоянно таскал в карманах какие-то травки и жуков; жуки то и дело вылезали из карманов и ползали по его рубашке, а травки он растирал в ладонях и нюхал).
— Ух ты! — подскочил Ялинский ко мне в тот день. — Черные зеркала! Где достал?
— Стянул на стройке, — просто ляпнул я.
— Как стянул? — Ялинский посмотрел на меня чистым, непонимающим взглядом (он был честен и простодушен до смешного). — Взял без спроса?
Я кивнул.
— Но ведь это нечестно!
Тут уж я не вытерпел.
— Ты, Яля, совсем того! — я покрутил пальцем у виска и отошел.
Неожиданно Ялинский поплелся за мной; сморщив лоб, он о чем-то думал. Потом выдавил из себя:
— Вообще-то я не прав. Это для нас ценность, а для них мелочь, правда?
Помолчав, он внезапно схватил меня за руку:
— Знаешь что! Пойдем после школы ко мне? У меня есть кое-что интересное.
Ялинский жил с теткой в «коммуналке» (его родители погибли на фронте) в закутке комнаты, отгороженном от соседей шкафами. В домашней обстановке Ялинский оказался намного раскованней, чем в школе: показал мне коллекцию камней и подробно рассказал о свойстве каждого камня. Потом вытащил из-под дивана папку с рисунками (в школе он считался признанным художником — без его оформлений не обходился ни один праздник; я был у него подмастерьем) и показал иллюстрации к прочитанным книгам, и карандашные наброски зверей, и рисунки доисторических чудовищ, и многое другое. Особенно впечатляли морские акварели, где терпели кораблекрушение матросы, а царь Нептун уже ждал их на дне.
Показывая рисунки, Ялинский не умолкая говорил, закатывал глаза к потолку, теребил шевелюру, а убрав папку, вдруг спросил:
— Ты любишь музыку?
Я кивнул:
— Люблю марши.
Ялинский достал из шкафа продолговатый футляр, открыл крышку, и его лицо засветилось — в футляре лежала скрипка. Он долго настраивал инструмент, тер смычок канифолью; я мужественно делал вид, что сосредотачиваюсь, напрягаю слух. Наконец «маэстро» закрыл глаза и заиграл. Вначале что-то грустное: с застывшей улыбкой медленно водил смычком и раскачивался. Потом улыбка с его лица исчезла, брови на лбу сошлись, пальцы левой руки быстро забегали по грифу, а смычок стал выделывать отчаянные скачки. Спокойная мелодия превратилась в бурный каскад звуков. Он играл песню «Веселый ветер»; красный от напряжения, трясся, вскакивал на носки и приседал, закручивая мелодию в неистовую карусель. И внезапно оборвал ее на самой высокой ноте и плюхнулся, обливаясь потом, на диван, измученный и опустошенный. Я стал спрашивать его, что он играл вначале, а он смотрел на меня, но ничего не слышал — был весь там, в музыке.
С того дня мы подружились и дали клятву — дружить до конца наших дней, а чтобы действенней скрепить обещание, обменялись дорогими вещами: Ялинский подарил мне чернильницу-непроливайку и перо «рондо», я вручил ему настенный календарь.
Ялинский основательно привязался ко мне, ведь я был его единственным другом. До этого он видел только похлопывание по плечу и усмешки, и вдруг мое навязчивое внимание. Наша дружба развивалась стремительно и была не просто близким приятельством, а настоящим братством. Мы вместе делали уроки (и я поражался, как ему все легко дается), ходили в кино на трофейные фильмы и на выставки в краеведческий музей, вместе рисовали (под его руководством я прошел начальный курс грамотной живописи — эти уроки являлись украшением нашей дружбы). Ялинский научил меня строить планеры и собирать парусники в бутылках, при этом особо нажимал на «простоту»:
— …Надо стремиться к простоте, к колесу. Простая вещь — прочная вещь. Чем сложней механизм, тем быстрей сломается…
Это были бесценные советы, я запомнил их на всю жизнь. Странная штука память. Каких только заскоков с ней не бывает! По-видимому, все зависит от степени сосредоточенности на чем-либо. Ведь память у обывателя — где лежат спички, соль, у творческого человека — яркие впечатления, у кого-то — даты, у кого-то лица… У меня сейчас — слова Ялинского. Так и слышу их, и вижу его — озабоченного, с каплями пота на переносице — пинцетом запихивает в бутылку детали парусника.
Я тоже кое-чему научил своего друга: выделывать пируэты на велосипеде, удить рыбу — но, конечно, мои уроки не идут ни в какое сравнение с его, по-настоящему драгоценными. Впрочем, кто знает, быть может я помог Яле заземлиться, иначе он так и остался бы на облаках.
Ялинский был верным, надежным другом. Когда меня учителя ругали, он прямо сжимался от боли, когда же хвалили (редчайшие случаи), радовался больше меня самого: поминутно ерзал на парте, толкал великаншу Олю локтем и шептал ей в ухо:
— Вот молодчина, а? Мой друг, ты знаешь?
Ялинский совершенно не умел скрывать свои чувства. Когда однажды я пришел к нему чуть позже, чем мы условились, он встретил меня тревожным голосом:
— Ну что же ты так долго?! Весь вечер тебя жду. Я уж думал, случилось что, — от волнения он даже заикался.
Как-то Межуев внес меня в списки своих жертв. Я-то знал цену его угрозам и ходил посмеивался, но простодушный Ялинский, узнав об этом, побагровел.
— Вычеркни сейчас же! — набросился он на грозного противника.
Межуев не ожидал такого напора от «тихони Яли» и в растерянности достал карандаш и вычеркнул мою фамилию.
В восьмом классе Ялинский уехал из нашего города. В день отъезда прибежал ко мне запыхавшись, и подарил коллекцию камней и все свои рисунки. Я проводил его до трамвая, и он долго махал мне рукой с последней площадки вагона.
Только теперь, через много лет, я понимаю, что Ялинский был моим самым искренним и самоотверженным другом. Теперь он стал известным художником, и я горжусь, что в то время, еще мальчишкой, угадал в нем необыкновенного человека. Правда, мне немного стыдно, что тогда его странность я называл не совсем так, как она этого заслуживала.
Маленькие и большие обиды
Недалеко от нашей улицы начиналась окраина города, где основными достопримечательностями были: свалка, каморка утильщика, москательная лавка и склад военного снаряжения, перед которым постоянно вышагивал охранник. Там же, на окраине, зимой заливали ледник — слой за слоем наращивали водой из шланга, а чтобы вода не стекала, делали барьеры из опилок, которых не жалели. Ледник сохранялся до середины лета, его использовали как «хладокомбинат» — куски льда развозили по овощным базам и магазинам. Ну а для нас, естественно, ледник был лучшим в мире катком. Мы прикручивали коньки к валенкам и играли в хоккей с «мячом» (консервной банкой).
У меня были разные коньки: один «английский спорт» — его я нашел на свалке, второй «снегурку» мне подарил Вовка. Первое время я сильно «хромал» из-за разной высоты коньков, но потом приспособился и даже обнаружил, что мои ограниченные возможности могут быть и преимуществом. Например, во время игры я мог на одной «снегурке» с ходу развернуться на 180 градусов — такой финт не каждый мог сделать на обычных «спотыкачках».
Однажды мы, как всегда, играли в хоккей; те, у кого не было коньков, катались с горы: плюхались на лист фанеры и неслись по извилистому ледяному желобу; ребята помладше (в их числе и мои сестра с братом) выкапывали в сугробах лабиринты, устраивали «тайники из хрусталя» (льдинок).
Неожиданно к военному складу подкатил крытый грузовик; вышли солдаты, стали разгружать металлолом; охранник, напуская на себя повышенную строгость, крикнул ребятам, копошившимся в снегу:
— А ну, пацаны, быстро отошли в сторону!
Мой брат с досады, что ему портят игру, запустил льдинку в воздух, но не рассчитал и льдинка упала на заиндевевшее каленое железо.
— Ну все! — гаркнул солдат. — Сегодня же доложу лейтенанту. Вы из какого дома?
— Вон из того, — моя сестра показала пальцем, а брат, не мешкая, припустился от склада.
Вечером отец сказал, обращаясь к сестре с братом:
— Вас вызывает лейтенант, начальник склада, — сказал спокойно, точно имел какую-то особую информацию.
Сестра с братом притаились в замешательстве, а отец невозмутимо продолжал:
— Ничего не попишешь. Придется идти, — и обратился ко мне: — Проводишь их?
Я кивнул, мне и самому было интересно, чем закончится эта история.
Утром, по пути в школу, я повел своих младших к складу; сестра всхлипывала, брат тревожно сопел и дрожал.
В приемной лейтенанта стояла лавка, а в углу на табурете блестел бачок с кружкой на цепочке. Когда мы вошли, из соседней комнаты выглянул кудрявый офицер и, изображая праведный гнев, спросил:
— Больше военную технику портить не будете?
— Не-ет! — разноголосо пропели мои младшие.