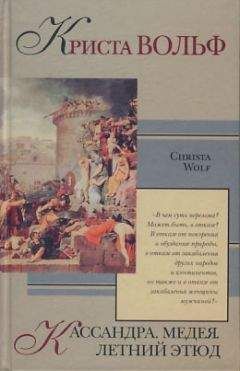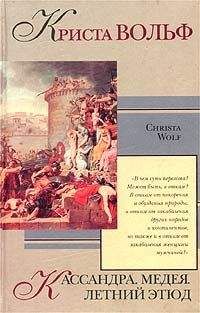И вот, покуда я пишу эти строки, пишу со спокойной совестью, потому что каждая фраза здесь засвидетельствована дважды и выдержит любую проверку, — покуда я дальше перелистываю страницы красно-бурой берлинской тетрадочки и натыкаюсь на строки: «Юстус, милый, любимый Юстус!», покуда я тщусь воссоздать комнату, где они могли встретиться впервые, покуда я делаю все это, во мне оживает прежнее недоверие, которое я мнила преодоленным, а если и ждала когда-нибудь его возвращения, то меньше всего — сейчас. Разве не могло случиться, чтобы сеть, сплетенная и расставленная для ее поимки, оказалась негодной? Фразы, которые написаны ее рукой, — да, пожалуйста, — и дороги, которыми она ходила, и комната, в которой она жила, и пейзаж, который близок ее сердцу, чувство, наконец, но только не она сама. Ибо поймать ее очень трудно. Даже будь я в силах передать с предельной достоверностью все, что мне еще было о ней известно или удалось разузнать, даже тогда нельзя исключить, что тот, кому я все расскажу, тот, кто мне нужен и кого я прошу о поддержке, в конце концов так ничего и не будет о ней знать.
Почти ничего.
Если только мне не удастся сказать о ней самое главное: она, Криста Т., имела собственное видение себя самой. Я не могу это доказать, как могла бы доказать: в таком-то году она жила там-то и там-то, брала на дом из городской библиотеки такие-то и такие-то книги. Книги безличны, я даже не просила отыскать для меня ее формуляр, в случае острой необходимости я могу и сама придумать два-три названия. Но вот видение человеком себя самого — его нельзя придумать, до него можно лишь случайно додуматься. А ее видение я знала давным-давно, с того самого дня, когда услышала, как она трубит в трубу.
Ведь на дворе между тем год пятьдесят пятый.
Юстуса мы долго не могли увидеть, я уже говорила, что его от нас скрывали. И мы даже самую малость недоумевали. Жена ветеринара в мекленбургской глуши — неужели этим все кончится? Потому что человек бессознательно жаждет устоявшихся формулировок. Недоумевали вплоть до костюмированного бала, на котором она изображала Софи Ла Рош, хотя костюма себе никакого делать не стала, а просто явилась в своем золотисто-коричневом платье со странным рисунком и объясняла всем и каждому, кого она изображает. Юстус же подле нее и тоже — как и она — почти без карнавального костюма изображал лорда Сеймура, во всяком случае, она так говорила. Никто не понял, экзальтированная это выдумка или попросту злая, но, во всяком случае, мы наконец получили возможность беспрепятственно созерцать Юстуса, причем выяснилось, что мы можем спокойно отбросить все наши формулировки.
Вероятно, это следовало назвать приемом, одним из первых на нашем веку, и мы чувствовали себя не очень уверенно, но при взгляде на хозяев у нас возникало чувство, что это необходимо. Будьте как дома, говорили они каждому, здороваясь, и Криста Т. благоразумно кивнула, обвела взглядом две большие, скудно освещенные комнаты, сняла несколько лент серпантина с фикуса, накинула их себе на плечи, высыпала на голову Юстуса пакетик пестрых конфетти и сказала: мы пришли куда надо.
Между прочим, я не разделяла ее уверенности. Мне чудилось, будто с этим вечером она связывает вполне определенный замысел, который не очень подходит к этому вызывающе и в то же время сдержанно костюмированному обществу. Казалось, она действует по заранее намеченному плану, то ли направленному исключительно против Юстуса, то ли ему адресованному, — толком не знаю. Меня так и подмывало дать ему знак, взять его сторону: он мне понравился. Потом я увидела, что никакие знаки ему не нужны. Он сохранял невозмутимое спокойствие, ибо время неуверенности давно для него миновало.
А для нее? Или именно она безмолвно просила о какой-то поддержке? Дорогая фрейлейн, сказала я, когда нас никто больше не мог слышать, сдается мне, вы не сознаете, какое бремя взваливаете на себя. Судьба Ла Рош! Сумасбродная и чуть сентиментальная мечтательница, против воли вынужденная прозябать в деревне и потому расточающая все свои несбывшиеся мечтания на выдуманный образ…
И того хуже, отвечала Криста Т. Ах, будь это просто Ла Рош, но задуман другой образ — фрейлейн фон Штернхайм и подразумевается ее судьба.
Вы шутите, сказала я.
Юстус принес нам шампанское и остался подле нас, но я смогла продолжать.
Совращение? Интриги? Фиктивный брак с этим подонком Дерби? Унылая сельская жизнь в английской провинции? И — о боже! — добродетель?
Вот именно, отвечала Криста Т. А как награда за все — лорд Сеймур. Конец песни.
О, мадемуазель, вскричал Юстус, вам не следует так меня называть!
Время покажет, сказала Криста, как вас следует называть.
Она залпом выпила свое шампанское и при этом взглянула на Юстуса. Его улыбка вселяла уверенность, но не была самоуверенной.
Из этого мог выйти толк, право же, мог.
Мне думалось, что теперь я отчетливее вижу, к чему она ведет. Это она нашла способ наглядно показать ему, чего лишится, последовав за ним. Казалось, она только сейчас сама поняла свой замысел и снова замерла в испуге — минута, полная значения. Юстус же, безразлично, догадывался он о том или нет, сделал единственно верное: он сделал вид, будто давным-давно все это про нее знает, будто сейчас просто настал решающий миг и будто мысль о каких бы то ни было «лишениях» даже и допускать не следует. И это он дал ей понять, не проронив ни звука, просто тем, как, глядя на нее, выпил свое шампанское, как взял пустой бокал у нее из рук, а затем пригласил ее на танец. Поскольку она, как он мог догадаться, уже приняла решение, от него требовалось только облегчить ей завершающий шаг: завершающего шага вообще не было, он стал для них одним из многих.
Она была ему признательна за ту уверенность, которую он ей дает, и имела к тому все основания. Он же не танцевал и не пил, дожидаясь той минуты, когда сможет сказать: пошли. Тут она оставила своего партнера и немедленно последовала за ним. Она мимоходом кивнула мне и покинула нас, мы же, оставшиеся, вольны были задаваться вопросом, почему мы никогда не верили, что она найдет свое счастье самым простым и естественным способом.
В тот вечер она хотела заставить всех и самое себя отступить на несколько шагов — на одно-два столетия назад, чтобы тем отчетливее разглядеть нас. Через сто, нет, даже через пятьдесят лет мы тоже будем стоять на сцене историческими персонажами. Зачем же так долго ждать? Отчего — коль скоро этого все равно не избежать, — совершив два-три шага, не вскочить на сцену самим, для начала перепробовать несколько ролей, прежде чем сделать выбор, несколько отвергнуть как оскорбительное предложение, не без тайной зависти обнаружить, что еще несколько уже розданы, и, наконец, принять ту, где все зависит от толкования, то есть от тебя самого. Роль жены человека, который станет ветеринаром, который знает, что она не только выискала, но и самолично создала его и что они должны заставлять друг друга делать все возможное и невозможное, если не хотят снова друг друга потерять.
В тот вечер он увел ее к себе. Я решила не придумывать комнату, это несущественно. Время ей больше не требовалось, спектакль подошел к концу, роль окончилась сама по себе: он любил ее.
Теперь надо проявлять сугубую осторожность. Так трудно отделаться от чувства, что ключ найден.
Теперь надо сохранять подозрительность. Как же так? И это все? Несколько недомолвок, «фантастическое бытие», «видение»… А если дверей было много? А если эта, единственная, была первой попавшейся и найдена лишь случайно?
Другие же остались на запоре даже и для нее, Кристы Т.?
Мы можем предпринять еще одну попытку. Пусть все решает не тот костюмированный бал, который все равно выдуман мною, а самое обыкновенное прибытие поезда в захолустный городок. Называть городок не имеет смысла, они все похожи один на другой, просто в этом по воле случая Юстус проходит практику. И стало быть, Криста Т. приедет к нему в гости. В субботу, дневным поездом. Еще чего не хватало, раньше мне просто не выбраться. Могла и вообще не ездить, очень даже просто, говорит она себе, впрочем, уже сидя в поезде, — ну и что с того? Так говорит Юстус, он из померанских крестьян, и она невольно смеется: ничего с того нет и не будет.
Погода великолепная, словно по заказу. Входит целая семья — молодой мужчина, неприветливая женщина и мальчик — со множеством всяких припасов: собрались в дальнюю дорогу. Мужчина опускается на тяжелый рюкзак и тотчас засыпает. Женщина садится напротив и неотрывно смотрит мрачным, жадным взглядом в его лицо, на котором выступили капельки пота. Она наклоняется, чтобы видеть его все время. У нее здоровое, массивное тело, мясистое лицо, светло-русые, зачесанные назад волосы, но положиться на свою внешность она не может, вот почему ей пришлось ввинтить в мочки ушей блестящие серьги, которые мало вяжутся с ее мрачной страстью.