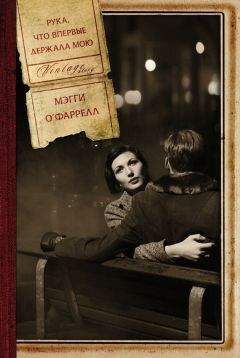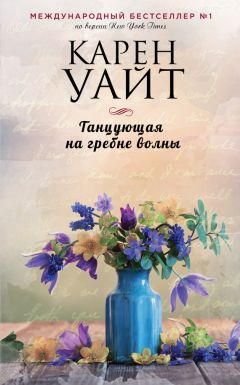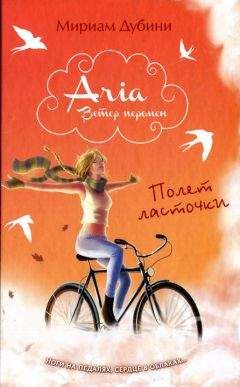Во время этой тирады Лекси украдкой взглянула на Марго. Ее охватило странное чувство, будто они заодно — два свидетеля давнего спора. Когда их взгляды встретились, Марго не отвела глаз. Не дрогнула, не шелохнулась. Просто смотрела на Лекси не мигая, приоткрыв рот. Через секунду-другую Лекси не выдержала и перевела взгляд на Глорию — та, в съехавшей набок шляпке, выкрикивала что-то о нравственных устоях.
— Глория, — сказал Иннес ледяным тоном, не глядя на нее, — если бы не Марго, я нашел бы что ответить на твои упреки в непорядочности. И только ради нее, ради нее одной я сдерживаюсь.
Наступило недолгое молчание. Глория не открывала взгляда от мужа, слышалось ее дыхание. Странная картина, пришло в голову Лекси. Если бы не речь, не слова, если бы не ребенок позади них, можно подумать, они пылают друг к другу не ненавистью, а страстью. Казалось, Иннес и Глория готовы заключить друг друга в жаркие объятия.
Первым не выдержал Иннес. В два прыжка подскочил к двери, рванул ее на себя.
— Думаю, тебе лучше уйти, — сказал он, глядя в пол.
Глория, прошелестев юбкой, обернулась, смерила Лекси прощальным взглядом, будто желая запечатлеть ее в памяти. Поправила прическу, шляпку, откашлялась и, схватив за руку дочь, бросилась вон из дверей, которые распахнул перед ней Иннес.
Он кивнул, почти поклонился девочке.
— Пока, Марго! Рад был тебя повидать.
Ответа не последовало. Марго Кент, потупившись, вышла следом за матерью.
Иннес захлопнул дверь, глубоко вздохнул, вернулся в комнату и с размаху пнул корзину для бумаг, вывалив содержимое на пол.
— Это, — сказал он будто бы про себя, — моя жена. Мое сокровище. Любо-дорого посмотреть, да? — Он налетел на стену, ударил по ней кулаком раз, другой. Лекси наблюдала в растерянности.
Иннес потряс рукой, подвигал пальцами.
— Ох, — удивленно простонал он, — черт!
Лекси подошла и принялась разминать его руку.
— Идиот, — сказала она.
Здоровой рукой Иннес притянул ее к себе.
— Почему идиот? Потому что по стене шарахнул? — прошептал он, уткнувшись ей в макушку. — Или потому что женился на этой фурии?
— И то и другое, — ответила Лекси. — Все сразу.
Иннес коротко обнял ее.
— Черт, — сказал он, — после такого тянет выпить. Что скажешь?
— Гм… — нахмурилась Лекси, — не рановато ли…
— Верно. Ну и к черту! Где-нибудь уже открыто?
— Нет, то есть…
— Который час? — Иннес глянул на часы, порылся в карманах. — «Карета и лошади»? Нет, в другой раз. Сунемся во «Французский паб». Согласна? К черту! — Он схватил Лекси за руку, распахнул дверь. — Пошли!
Они двинулись по Бэйтон-стрит, но в самом конце, на углу Дин-стрит, Иннес остановился, пошарил в карманах, ища сигарету.
— Пойдем к Мюриель, — буркнул он. — За ней должок.
— За что? — переспросила Лекси, но Иннес уже устремился вперед.
Минутой позже они уже сидели в уголке бара «Колония», Иннес допивал виски. Шторы были задернуты от дневного света, а на табурете у входа восседала Мюриель Белчер, обозревая свои владения. «Что сегодня с мисс Кент?» — встрепенулась она, когда в дверь влетел Иннес.
Лекси смотрела, как в аквариуме возле кассы кружатся разноцветные рыбки, и вновь и вновь выводила на липком столе свое имя, окуная соломинку в джин с тоником. У стойки сидел человек с широким, асимметричным лицом и на весь зал обменивался колкостями с другим, которого Иннес при встрече назвал Макбрайдом. В углу танцевал под граммофонную пластинку рослый красавец. За соседним столиком сидела старушка в потрепанном пальто, в окружении сумок, попивая виски, что купил ей Иннес.
— Ты ведь не приняла все всерьез? — спросил вдруг Иннес.
Соломинка замерла в руке у Лекси.
— Что?
— Ее актерство.
Лекси молча обмакнула в бокал соломинку.
Иннес потушил сигарету.
— Она на публику работает. Это же очевидно. Ее слезы и истерики — всего лишь игра. Она на все пойдет, лишь бы добиться своего. На меня ей плевать. Она просто не любит проигрывать. Не может смириться с тем, что я живу с тобой.
Лекси все молчала.
— На меня ей плевать, — повторил Иннес.
Лекси сделала глоток, джин обжег горло. Танцор сменил пластинку и, тряся головой, закружился под лихую мелодию.
— Не уверена.
— Ну а я уверен.
— А Марго?
Иннес, против обыкновения, молчал. Он схватил бокал перно и осушил залпом.
— Она не от меня, — сказал он наконец.
— Ты уверен?
— На все сто.
— Откуда ты знаешь?
Иннес встрепенулся. По губам скользнула улыбка, и он вновь опустил глаза, повертел в руке пустой бокал. Старушка, улучив миг, наклонилась через проход к их столику и потрясла перед носом у Иннеса жестяной табакеркой.
— Простите за беспокойство, — произнесла она лукаво, свысока, — угостите стаканчиком?
Иннес со вздохом уронил в жестянку шиллинг.
— Пожалуйста, Нина. — И вновь обратился к Лекси: — Я не был дома два года, — объяснил он, — когда родилась Марго.
— Но она-то не знает, что ты ей не отец?
Иннес играл прядью волос Лекси — то заправлял ей за ухо, то высвобождал.
— Иннес, — допытывалась Лекси, отстраняясь, — зачем от нее скрывать?
— Она… — начал Иннес, но осекся. — Я всегда считал, что ей лучше не знать. Она ведь ни при чем. Если я от нее откажусь, она останется без отца. Даже плохой отец лучше, чем никакого, согласна?
— Не знаю. Честное слово, не знаю. Мне кажется, она должна знать правду.
— Ох… — Иннес, махнув рукой, встал и направился к стойке. — Вам, молодым, всегда правду подавай. Не так уж важна правда, как принято думать.
Брак Иннеса, по большому счету, так и остался для Лекси загадкой. Имя Глории он обходил молчанием, а если и упоминал, то с руганью и проклятиями, изобретая все более изощренные.
Лекси удалось выведать лишь голые факты. Что Иннесу было семнадцать, когда началась война, что его мать Фердинанда наотрез отказалась оставить дом на Мидлтон-сквер, хоть вокруг выли сирены воздушной тревоги. Иннес ходил в школу; Фердинанда оставалась дома с горничной Консуэлой. Чем они занимались? — спросила Лекси у Иннеса однажды вечером, когда приоткрылось окно в его прошлое. Вышивали узоры, ответил Иннес, и приукрашивали историю. В восемнадцать он уехал в Оксфорд, изучать историю искусств. В двадцать вернулся, его призвали в ВВС Великобритании.
Представьте двадцатилетнего Иннеса в синей саржевой форме на учениях в армейском лагере: он тренируется на аэродроме близ Лондона, вместо истории искусств — армейская муштра. Он источал несчастье, словно дурной запах. Он не был создан для ВВС, для войны.
Итак, вот голые факты. Но кроме них, есть всевозможные тонкости, целые пласты неизвестного. Лекси так и не узнала точно, как выглядел Иннес, когда впервые увидел Глорию, во что он был одет, сидел он, стоял или шел.
Встретились они в галерее Тейт, проговорился однажды Иннес, во время его отпуска. Они смотрели картины прерафаэлитов, стояли напротив Беатриче с огненными волосами. Вообразите Глорию перед Беатриче. Одета она скромнее обычного (учтите, идет война): неброское пальтецо, на ногах — ботики со шнуровкой, завитые волосы причесаны на косой пробор. На губах — алая помада. На шее, наверное, шарф. На плече крокодиловая сумочка.
Чувствовала ли она, что Иннес рядом? Видела ли, как он приближается украдкой? Отвернулась ли хоть на миг от картины, оглянулась ли? Наверняка Иннес сделал первый шаг. С чего он начал? С реплики о картине? Они разговорились, прошли в соседний зал; может быть, сверились с планом галереи. Может быть, выпили чаю с булочками в соседнем кафе. А потом, наверное, гуляли по набережной.
Спустя месяц они поженились. Иннес мялся и злился, если его расспрашивали, почему, и любил ли он Глорию, и о чем думал тогда. Возможно, все мысли его занимала бойня в Европе, но Иннес не говорил. Он не любил признаваться в своих слабостях, выставлял себя бесстрашным, неуязвимым.
Фердинанда, мечтая в скором времени понянчить внуков, отдала молодым весь нижний этаж. Новоиспеченная невестка скрасит ее одиночество. Лекси не застала Фердинанду — та не дожила до старости, — но представим ее высокой дамой с тронутыми сединой волосами, собранными в пучок; вот она сидит наверху в доме на Мидлтон-сквер (комната роскошная, с окнами от пола до потолка, а из окон виден сквер, деревья, скамьи), кутаясь в шелковую шаль; Глория устроилась в кресле напротив, а Фердинанда просит верную Консуэлу налить чай.
Иннеса вскоре послали на аэродром в Норфолке. Спустя чуть больше недели его самолет сбили в Германии во время налета. Все погибли, кроме рядового Кента, двадцати одного года, — он раскрыл парашют, и его понесло пушинкой на вражескую территорию.
Впрочем, какая там пушинка! Полет был стремительный, страшный; холодный ночной воздух обжигал лицо; в раненой ноге застряли осколки фюзеляжа и черепа товарища, а Иннес, болтаясь на стропах, смотрел, как несутся навстречу верхушки деревьев.