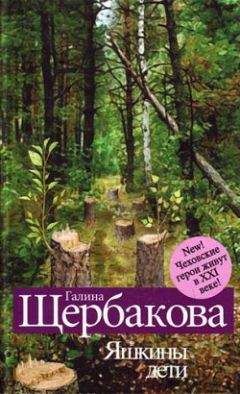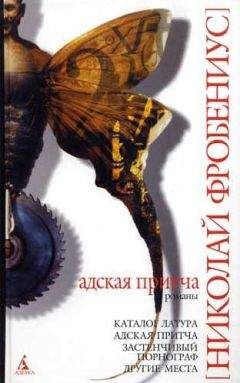Он молчит, а потом выговаривает почти виновато:
– Давайте лучше договоримся.
– В смысле? – не сразу доходит до меня. Я тупая, и не врубаюсь.
– Стольник – и разойдемся.
Ужас! У меня нет стольника. У меня в кошельке пятихатка, как говорит моя внучка.
– Сдача найдется?
– Давайте, я принесу сдачу.
И я почему-то отдаю ему деньги. И он уходит с мокрыми волосами и шапкой в руках.
Я ждала его до вечера, ждала на другой день. Он не вернулся. Не буду пыжиться: четыреста рублей для меня деньги, я немолодая женщина, а он мальчишка. «Покрутись и заработай», – это я мысленно говорю ему. Идти в милицию? С чем? Какие у меня доказательства? Встретить его на улице и дать по морде. Как моя бабушка? Совсем не тот случай. Меня же привлекут, и правильно, между прочим.
Как это у Чехова? Мир изменился, и жить на свете уже никак невозможно. Так размышлял унтер-офицер, каптенармус. И бабушкин поклонник наверняка думал так же тогда, на стадионе. О чем думал мой герой?
Он ведь как представился: «Я не оборотень в погонах». Сбежав из «сгиблой деревни», он хотел лучшей жизни. И познал: для этого надо стать оборотнем. Но не получалось. Никак. Не было случая. И тут в руках оказалась не просимая сотня – пятьсот! Я просто вижу, как он ходит вокруг дома, комкая в руках разменянные деньги. Два шага – и он человек. Но мои окна светятся уютно, а у него жесткая койка в общаге. Из моей форточки пахнет хорошим кофе. «У нее халтура, сама сказала. А почему ж мне нельзя?» И крутит его оборотень и так, и эдак, и человек в нем извивается, как уж на сковородке, и перед глазами единственный путь – сгиблая его родина, и другого варианта нет. И он идет на свою железную койку, и у него снова взмокла шапка, жмут сапоги, во рту противный вкус застывшего беляша. Бедный ты мой, оборотень Пришибеев.
Сергей Иванович ненавидел жильцов своего подъезда, как Каин Авеля. Но если у Каина были на это свои хоть какие-то причины, глупые на наш взгляд, то у Сергея Ивановича ненависть была животной. Садясь в лифт с соседями, он щетинился, как лабрадор, увидевший кошку. И люди-кошки как-то это сразу чувствовали. И, бывало, не садились с ним, если он был в лифте один.
Мария Петровна, жена, знала об этом. Неужели наши люди смолчат и не скажут, по дружбе, конечно: ну, Маша, твой мужик такая, извини, сволочь, что как ты с ним – понятия не имею. Мария Петровна заходилась в крике, мол, всякая интеллигентность теперь не в почете, а муж ее кандидат наук, а не какой-нибудь пальцем сделанный шофер. Результат можете себе представить, слово за слово, спасибо лифту, он делал остановку – и кому-то выходить. Величайшее это достижение техники – распахнутая на выход дверь лифта. Покричишь потом на площадке, открытым ртом вверх или вниз, и остается радостное ощущение последнего слова за тобой.
Мария Петровна возвращалась домой белая, как стенка, и выдавала мужу по полной программе коммунистической морали. «И что ты себе думаешь, дурак?» «И слабо тебе сдерживать гордость кандидата наук?» И прочее, прочее.
После одного такого скандала Сергей Иванович резко переселился спать на тахту типа «Ладога», оставив Марию Петровну одну в полуторной кровати. К моменту нашей истории они жили так уже пять лет. Мария Петровна смущалась этим разноположением, потому что упрямый Сергей Иванович нет чтобы уложить постельное белье в кровать, оставлял его на тахте, мол, так я сплю и не иначе, и мне плевать, какие вопросы могут возникнуть у разного там приходящего в дом быдла. Ему было тесно на «Ладоге», но душа его пела от сознания совершенной им справедливости.
А в это время их дочь-перестарок, старая дева в прямом смысле этого слова, разногольничала в отдельной, пусть и маленькой комнате. У нее было твердое убеждение правильности раздела ложа родителей, потому как совесть надо иметь спать пенсионерам вместе, это ж какой-то разврат типа однополой любви или там еще чего. Старик и старуха – это хуже, чем «Дом-2», где все сношаются друг с другом на глазах у камер. Дочери Валюше просто плохо делалось от всех этих безобразий. И хорошо, что родители опомнились. За это она будет пить с ними вечерний чай с любимым «Деревенским Наполеоном». Не каждый день, конечно, но при наличии торта – обязательно. А то ей мать приносила в «детскую» ломтики, а когда ей хотелось добавки, то коробка была уже пуста и мать заталкивала ее в мусорное ведро. Родители были такие сластены, что аж противно.
А потом случилось это.
Сергею Ивановичу снился сон. Он идет по улице, и тут откуда ни возьмись туча, и как брызни на него. Он аж заворочался во сне, такими наглыми были капли этого воистину слепого дождя, как говорилось в детстве. Он крутился под ним, как уж на сковородке, пока не сообразил, что каплет на него не во сне, а на самом что ни на есть яву. Он включил ночник и увидел над собой невероятной величины мокрое пятно (со сна все казалось страшнее) и мелкую сочащуюся прямо на него капель. Ох, как он вскочил! Ох, как он заорал!
Была в его крике, кроме гнева, плохо скрываемая радость от того, что он правильно думал о человечестве вообще и о живущих с ним в одном доме.
Он помчался наверх, не застегнув как следует пуговицы, а палец в кнопку соседского звонка вдавил так, что пришлось его выдергивать до появления капли крови. Тут уж представьте себе все сами!
Из квартиры вышел абсолютно сонный, в трусах, мужик и сразу все сказал единственным точным языком общения. Но Сергей Иванович уже ворвался в квартиру и увидел то, что хотел. Пол в кухне был мокр, а из трубы под краном хлобыстало как следует.
– Ё-моё! – сказал сосед. – Это ж прорвало систему. Я в этом деле не копенгаген.
– Мне без разницы, – ответил гордо Сергей Иванович, – копенгаген или система. За ремонт будешь платить, и обещаю – мало тебе не будет.
– Вы мне не тычьте, – сказал сосед, – мы с вами гусей вместе не пасли. А платить я не буду, потому как за трубу в стене я не отвечаю. Она принадлежит государству. – И он стал выталкивать Сергея Ивановича, сунув предварительно на место протечки таз.
Таз был из старых, цинковый, вода отбивала в нем удивительную мелодию радости и победы. Под ее звуки и покинул квартиру Сергей Иванович. Дома он обнаружил хорошо мокрую «Ладогу» и растрепанных женщин. Он двинул ложе посередь комнаты, а на пол поставил уже свой таз, эмалированный. И был обескуражен разностью мелодий двух тазов. Тот, верхний, просто был гусаром, а этот, что на полу, не звучал, а попискивал. Было в этом что-то обидное для высокой души Сергея Ивановича.
– Ну, ложись на кровать, – сказала глупость жена. – Все равно до утра это не кончится. Это же надо перекрыть воду.
– Я позвоню в диспетчерскую, – сказала Валюша.
И, конечно, получила отлуп, слесаря не было, он где-то что-то уже перекрывал.
Сергей Иванович факту этому обрадовался. В нем играло ретивое, и страсть ободрать как липку соседа была сродни памороку. Он уже писал заявления в суд, в ЖЭК и в депутатскую комиссию.
Он своего добился. Воду таки перекрыли, а вот в смысле ее возвращения история возникала смутная.
– Система старая, – сказала ему депутат, – сгнило изнутри. Потерпите. В ванной же и уборной вода есть. Представьте, если бы прорвало там, а не на кухне. Вот это был бы караул.
– Но каждый должен следить за своим состоянием. Капает – подставь ведро там или тазик. У всякого интеллигентного человека это в хозяйстве есть.
– Это частично верно. Но человек спал, нет закона не давать человеку спать. И вы ведь спали… Ну, ваша беда, что вы оказались ниже.
Сергей Иванович не мог найти концов для возмездия и пошел прямым путем. Он стал требовать за ремонт потолка деньги.
Тут пришло время познакомиться с ответчиком.
Михаил Николаевич был холост и работал печатником в типографии. Двухкомнатную, аналогичную с Сергеем Ивановичем квартиру он получил еще при живой матери. Она умерла уже пять лет тому, Михаил Николаевич ощущал себя царем в своей квартире. Заботливая мать успела обставить ее рижскими гарнитурами, еще когда была в силе, она была толковым товароведом. До последнего дня жизни она следила за пятнышками и трещинками, меняя раз в два года обивку дивана и кресел, протирала до блеска фарфоровый и хрустальный сервизы. И сынок оказался хорошим учеником, все, что было в квартире, по-прежнему имело вид только что сделанной уборки.
Конечно, мать хотела, чтобы он женился еще при ней, чтоб увидеть внуков и научить невестку придавать хрусталю особый блеск и свечение. Но не вышло.
С мамой было так уютно, а женщин хватало с лихвой в типографии и издательстве. Он любил ночные смены и ночных корректорш. Был у них там закуток за печатными машинами с тумбочкой и топчанчиком. Сладкое место любви. Правда, последние годы куражу у Михаила Николаевича убавилось. Он так это заметил: отмечали его полтинник, пели, пили, а в закуток его не потянуло. Отметил про себя факт, но не придал значения.