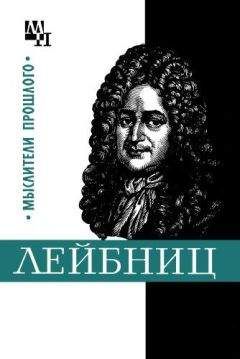Трудно сказать, какие «гремушки» имеет в виду Ксенопонт Петропавлович; прислушиваясь к природе, мы никаких «гремушек» в ней не нашли, если только это не были какие-нибудь пузыри, наполненные сухим горохом, коими издавна услаждают свой — и коровий — слух пастухи балтийских низин.
«…в то время как человек, мучитель животных, изъявляет ядовитое дыхание жадности». «Жадность сия противостоит любой благоуспешной работе, она озлобляется и над мертвыми трупами».
«Там увидит Ксенофонт Василиск хижину молодой четы Люциуса и Милены, кои лишь вчера совокупились приятным союзом брака. Он имеет от роду 17 толико лет и откровенный вид лица с кругловидными ланитами. А вокруг новобрачных шумит своими листами природа, пекущаяся лишь о доставлении приятностей».
«Но чу, не пройдет и году, как рука Люциуса падет на землю подобно члену, лишенному жизни. И Милена уж не подъемлет очи свои благонравные выспрь. Так и лежат они у ручья, изнуренные болезненным чувством глада».
Как мы видим эти некоторые примеры из писательского альбома графа Рязанского указывают на то, что он в те дни немало был увлечен сочинениями Жан-Жака Руссо, что и отразилось в некоторых главах его опуса «Новая Семирамида, или Путешествие Василиска». Недаром рядом с именем Руссо косо приводится цитата неизвестно откуда, если не из собственных соображений: «О, россы, вам не запрещают великих гениев читать!» В то же время и, очевидно, прежде всего он творил так называемые пробы пера и слога. Русский литературный язык в те времена еще не дождался Пушкина и порядком изнывал от собственной тяжеловесности и громоздкости. Недаром вопрос слога был поднят Фон-Визиным в его уникальном интервью с Императрицей.
«От чего, — спрашивает драматург другого драматурга, то есть Государыню, — въ Европе весьма ограниченный человек въ состоянии написать письмо вразумительное, и от чего у нас часто преострые люди пишуть безтолково?»
Она отвечает: «От того, что тамъ, учась слогу, одинаково (очевидно, в смысле стилистически грамотно) пишуть; у нас же всякъ мысли свои, не учась, на бумагу кладетъ».
Интересно, что по ходу распространения просвещения в российской литературе возникал весьма своеобразный стиль, который кое-что приобрел и от той неучености, возникло то, что впоследствии критиками-формалистами начала XX века было названо «сказ». В тот век, в который мы сейчас встраиваем наш роман, русский человек учился у Европы всему, даже походке, но учился на свой манер. Екатерина, кажется, это понимала и придавала всем этим, казалось бы, мелочам большое значение. Так, в том же интервью с Фон-Визиным она говорит: «Сравнение прежнихъ временъ с нынъшними покажеть несомнънно, колико души ободрены либо упали; самая наружность, походка и прочее то уже оказывает».
***
Граф Рязанский был явственно ободрен временами нынешними, что было видно и из его наружности, и из его походки на тонких красных каблуках, пристрастие к коим давало иным его друзьям право дразнить его «персидским шахом» (чей портрет на тонких, будто бы дамских, каблуках мы и сейчас можем увидеть в персидском отделе Лувра), а посему мы считаем нужным начать новую главу полностью в его слоге.
***
Сказ наш прохаживается нынче тихими стопами посредь множественной справедливости, в коей зиждется замок гостеприимства, а в отдалении многопушечный корабль рачит покой и сохранность опекуемых. Нощь простирается над островом Оттец, и в оной нощи на балконе романском трио виольное ёмко, с пафусом LA NOTTA волшебную извлекает из мирового исходища с помощью нот синьора Вивальди, и всякое сущее замирает в ицекотаньи зефиров, когда те приносят с приятностью услаждающие ароматы.
***
Далее от изысков слога мы переходим к суровой необходимости вести повествование. Первую беседу по предложению Вольтера решено было провести за ужином на террасе. Накрыт был круглый стол, в сердцевине коего разместилась изящная клумба из парниковых камелий и натуральных лилий, лишь слегка попахивающих лягушками. К птичьему фрикасе подавались тончайшие вина, в том числе датский сидр, настоянный на ютландской свекле. Философ, отоспавшийся за день и умащенный преданными руками Лоншана и Ваньера, теперь являл собой всю остроту галльского смысла вкупе с безупречностью салонного туалета. Федор Фон-Фигин полдня провел в седле на спине великолепного Пуркуа-Па, одолженного ему юным Земсковым, скача по окрестным холмам и низинам. Признаться, после жидких стихий сия твердь вызывала в нем едва ли не ностальгический восторг. Сейчас, уже не в морском, а в мундире излюбленного Государыней Семеновского полка, он чувствовал себя бодру и молоду, если не считать возникшей с отвычки натруженности седалища (не путать с исходищем). При каждом взгляде на своего собеседника он вспыхивал нескрываемым восторгом, и собеседник ответствовал ему с искреннейшей любезностию, в коей лишь какие-нибудь чертенята могли обнаружить толику смешка. Вокруг стола присутствовали только персоны ближайшего круга: генерал Афсиомский с секретарями Дрожжининым и Зодиаковым, кавалеры Буало и Террано, принцессы земли Цвейг-Анштальтской-и-Бреговинской Клаудия и Фиокла, дамы цвейг-анштальтского двора Эвдокия Казимировна Брамсценбергер-Попово, баронесса Готторн, и графиня Марилора Эссенмусс-Горковато, а также символ непререкаемой надежности коммодор (без пяти минут адмирал) Вертиго Фома Андреевич.
Все были очень довольны приятственными зефирами, а также и тщательно подготовленным под зорким оком генерала меню, в котором фигурировали такие, например, изыски, как молочные польские поросята, нафаршированные осетровой каспийскою икрою, или, наоборот, астраханские осетры с начинкой из страсбургской гусиной печенки. Настроение было легкомысленное, все болтали и смеялись, как одержимые, в частности вспоминая «облискурацию» в Мекленбурге, где также царствовали близкие родственники Романовых, и все предполагали, что в таком ключе пройдет весь ужин — коммодор Вертиго даже надеялся пробиться с какой-нибудь морской историей, — однако же разговор неожиданно повернул к вельми сурьезным материям.
Барон Фон-Фигин (он оказался в данном случае субалтерн-адъютантом) поднял бокал со свекольно-пенящимся сидром: «Дорогой Вольтер, я не знаю, найду ли я в эти дни слова, чтобы передать восхищение, кое испытывает наша Государыня к вашему перу и к вашей неповторимой личности, сквозящей в каждой строке вашего каждого к ней письма. Я пью за вас и хочу сказать, что Российская империя всегда будет вашим надежным другом, истинно оплотом того, метафорически говоря, повествования, в коем мы, все присутствующие, с великой сурьезностью пребываем в роли исторических персонажей. Месье, позвольте мне также сказать, что наша Госудырыня полностью разделяет мнение просвещенных кругов, почитающих вас повсеместно как истинную совесть Европы. В этой связи она попросила меня начать наши беседы с „дела Каласа“, о коем много сейчас говорят при дворах государей, в дипломатических миссиях, в академиях и салонах, а также среди лиц духовного звания. Толки эти весьма разноречивы, и Государыня хотела бы, чтобы я передал ей рассказ человека, который сделал мелкого торговца из Тулузы знаменитым на весь мир».
Он замолчал, поставил бокал и опустил глаза. Произошла небольшая странноватая пауза, после чего он добавил: «Увы, посмертно». Последовала еще одна пауза, после чего он поднял глаза на Вольтера и повторил: «Увы, посмертно». Все заметили, что господин Фон-Фигин чрезвычайно взволнован. Курфюрстиночки, которые с первого же момента встречи были чрезвычайно впечатлены сравнительной молодостью посланника Императрицы, теперь оказались под впечатлением его чувствительности. Они, как, впрочем, и все остальные, не догадывались, что отнюдь не судьба «мелкого торговца из Тулузы» так взволновала господина Фон-Фигина. Правильно ли я начинаю наш диалог? — вот чем он был взволнован. Не сочтет ли Вольтер такое начало надуманным, неуместным, тяжеловесным? Впрочем, если я начинаю именно так, и тут он прямо посмотрел Вольтеру в светленькие глазки, это значит, что именно так и следует начать, потому что это Она так хочет, чтобы мы именно с этого начали наши беседы.
Вольтер утвердительно кивнул. Он был единственным, кто угадал причину волнения Екатерининого «альтер эго». И он был весьма доволен таким началом. Что греха таить, увидев изящного молодца, он сначала подумал, что прислан очередной фаворит для развлечений на природе, а ему, великому Вольтеру, отведена будет роль развлекателя, едва ли не шута при сем франтоватом господине. И только сегодня пополудни, увидев из окна въезжающего во двор замка на знакомом жеребце Фон-Фигина, он преисполнился к нему каким-то еще непонятным благоговением. Тот, кто спит с повелительницей миллионов, становится частью Ее Величества, не так ли? Теперешний вопрос о «деле Каласа» подтвердил его предположение: этот сразу поворачивает все свои «вакации» в единственно правильное русло. Подданные могут веселиться и предаваться юмору, но лишь властелины и независимые, сиречь филозофы, должны даже и сквозь юмор понимать трагедию жизни.
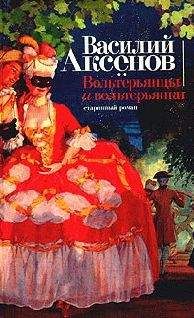
![Александр Прозоров - Трезубец Нептуна [= Копье Нептуна]](https://cdn.my-library.info/books/108530/108530.jpg)
![Александр Прозоров - Трезубец Нептуна [= Копье Нептуна]](https://cdn.my-library.info/books/107258/107258.jpg)