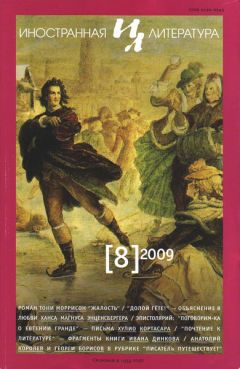Позади стояли двое белых. У одного в руке была спиртовая лампа, у другого — фонарик. Никакой ошибки быть не могло — это были белые, Чолли их чуял. Он вскочил, пытаясь одновременно удержаться на коленях, подняться на ноги и надеть штаны. У мужчин были ружья.
— Хи-хи-хи, — за смешками последовал долгий астматический кашель.
Другой осветил фонариком сперва Чолли, потом Дарлин.
— Давай, ниггер, продолжай, — сказал владелец фонарика.
— Сэр? — переспросил Чолли, пытаясь найти петлю для пуговицы.
— Я сказал, продолжай. И постарайся, ниггер, хорошенько постарайся.
Чолли некуда было прятать глаза. Они тайком скользили в поисках укрытия, пока тело его оставалось парализованным. Человек с фонариком опустил с плеча ружье, и Чолли услышал лязг металла. Он опустился на колени. Дарлин отвернулась от света лампы, глядя в окружающую темноту, глядя почти равнодушно, словно это не она принимала участие в разворачивающейся драме. С жестокостью, порожденной полной беспомощностью, он вздернул ей платье и спустил свои штаны и трусы.
— Хи-хи-хи-хи-и.
Когда Чолли начал изображать то, что проделывал с ней до этого, Дарлин закрыла лицо руками. Он не мог сделать все по-настоящему, мог только сыграть свою роль. Огонек фонаря освещал его зад.
— Хи-хи-хи-хи-и.
— Давай, негр, давай быстрее. Ты же ничего для нее не делаешь.
Чолли, двигаясь все быстрее, смотрел на Дарлин. Он ненавидел ее. Ему почти хотелось, чтобы у него получилось — тяжело, долго и больно, так он ее сейчас ненавидел. Луч фонарика прополз ему в кишки и превратил сладкий вкус винограда в гнилую вонючую желчь. Он смотрел на руки Дарлин, закрывающие лицо в свете луны и лампы. Они были похожи на детские.
— Хи-хи-хи-хи-и.
Залаяли собаки.
— Это они. Это они. Я знаю, что это старый Хони.
— Да, — ответил человек с лампой.
— Пошли, — фонарик отвернулся, и один их них засвистел Хони.
— Погоди, — сказала лампа. — Негр еще не кончил.
— Он кончит, когда придет время. Удачи, парень.
Они захрустели сосновыми иголками. Чолли слышал, как они свистят, а потом услышал и ответ собак — не вой, а радостный лай при встрече.
Чолли поднялся и молча застегнул брюки. Дарлин не двигалась. Чолли хотелось удавить ее, но вместо этого он коснулся ботинком ее ноги.
— Нам пора. Вставай.
С закрытыми глазами она пошарила вокруг в поисках нижнего белья, но не смогла его найти. Потом они вдвоем искали в лунном свете ее трусы. Когда она их обнаружила, ее движения были похожи на движения старой женщины. Они пошли прочь из леса, к дороге. Он — впереди, она плелась где-то сзади. Начался дождь. «Хорошо, — подумал Чолли, — это объяснит нашу одежду».
Когда они вернулись домой, там все еще было человек десять-двенадцать гостей. Джек ушел, Сьюки тоже. Некоторые подходили за добавкой: за картофельным пирогом и ребрышками. Все были поглощены вечерними воспоминаниями о снах, призраках и предчувствиях. Этот душный уют был наркотиком и навевал выдуманные воспоминания.
Возвращение Чолли и Дарлин не произвело особого впечатления.
— Вымокли, да?
Мать Дарлин не могла долго ругаться. Она слишком много съела и выпила. Ее ботинки стояли под стулом, а боковые застежки платья были расстегнуты.
— А ну-ка подойди сюда. Хоть я тебе говорила, чтобы ты…
Некоторые гости собрались ждать, пока не кончится дождь. Другие, те, кто приехал в фургонах, решили, что лучше пойдут. Чолли вошел в маленькую кладовку, которую ему приспособили под спальню. Трое ребятишек уже спали на его раскладушке. Он снял одежду, мокрую от дождя и сосен, и надел комбинезон. Он не знал, куда ему идти. В комнату тети Джимми заходить, само собой, нельзя, к тому же наверняка туда отправятся дядя О. В. со своей женой. Он взял с сундука одеяло, расстелил его на полу и лег. Кто-то заварил кофе, и перед тем, как уснуть, ему страшно захотелось выпить глоток.
Утром следующего дня всё отмывали и отчищали, приводили в порядок счета и распределяли добро, оставшееся от тети Джимми. Рты были похожи на опустившиеся полумесяцы, глаза прикрыты, шаги осторожны.
Чолли бесцельно слонялся по дому, выполняя время от времени какие-то поручения. Все тепло и внимание, которое он получил от взрослых в предыдущий день, сменилось раздражительностью, созвучной его настроению. Он мог думать только о фонаре, винограде и руках Дарлин. А когда он не думал о них, пустота в его голове была похожа на дырку от выдернутого зуба, напоминание о гнили, которая тут недавно была. Он боялся встретить Дарлин и не уходил далеко от дома, но здешняя атмосфера его угнетала. Все копались в вещах и обсуждали их состояние. Мрачный и раздражительный, он взращивал в себе ненависть к Дарлин. Он не думал о том, чтобы направить эту ненависть на охотников. Такая мысль разрушила бы его. Они были взрослыми белыми вооруженными людьми. А он был маленьким, черным и беспомощным. Его подсознание знало то, чего не знало сознание: ненависть к ним его уничтожит, сожжет как кусок сухого угля, оставив только пепел и вопросительный знак из таявшего дыма. Придет время, и он откроет в себе ненависть к белым, но не сейчас. Не в этом состоянии беспомощности, а тогда, когда злоба сможет найти долгожданный выход. А сейчас он ненавидел ту, которая создала эту ситуацию и видела его неудачу и беспомощность. Ту, которую он не смог защитить, пожалеть, укрыть от круглого, словно луна, луча фонарика. От «хи-хи-хи». Он вспоминал развязавшийся бант Дарлин, хлеставший ее по лицу, когда они молча возвращались домой в темноте под дождем. Растущее в нем отвращение заставило его содрогнуться. Ему не с кем было поговорить. Блю в те дни слишком часто бывал пьян. К тому же, Чолли сомневался, что он сможет поведать Блю о своем позоре. Ему пришлось бы немного соврать Блю, Блю-женоубийце. Казалось, что быть в одиночестве лучше, чем быть одному.
В тот день, когда дядя Чолли был уже готов уехать, когда все вещи были собраны, а ссоры по поводу того, кто что берет, утихли, превратившись в липкий соус на языке, Чолли сидел на заднем дворе и ждал. И вдруг ему пришло в голову, что Дарлин может забеременеть. Это была совершенно необоснованная и иррациональная мысль, но страх, который он ощутил, оказался вполне реальным.
Надо было бежать. Он подумал, что и так уезжает, но тут было совсем другое. Он уезжал недалеко, да к тому же не доверял дяде, который ему не нравился, так что мать Дарлин запросто найдет его, а дядя О.В. вернет обратно к ней. Чолли знал, что плохо убегать от беременной девушки и с сочувствием думал об отце, который сделал то же самое. Теперь он его понимал. Теперь он знал, что надо делать — найти его. Отец поймет. Тетя Джимми говорила, что он уехал в Макон.
В голове у Чолли мыслей было не больше чем у цыпленка, выбирающегося из скорлупы, и он спустился с крыльца. Уже отойдя от дома, он вдруг вспомнил о сокровище: тетя Джимми кое-что оставила, а он и забыл. В старом печном дымоходе она хранила небольшой коричневый сверток, который называла сокровищем. Он проскользнул в дом и увидел, что в комнате никого нет. Покопавшись в дымоходе, он обнаружил только паутину и копоть, но потом добрался до свертка. Он разложил деньги: четырнадцать однодолларовых банкнот, две бумажки по два доллара и куча серебряных монет — всего двадцать три доллара. Вполне достаточно, чтобы добраться до Макона. Какое сильное и хорошее слово — Макон.
Сбежать из дома для чернокожего мальчика из Джорджии было парой пустяков. Ты просто исчезаешь — и вперед. Когда приходит ночь, ты спишь в амбаре, если рядом нет собак, в поле сахарного тростника или на заброшенной лесопилке. Ты ешь то, что растет на земле, покупаешь в маленьких деревенских магазинах лимонад и лакрицу. Взрослым чернокожим, если они пристанут с расспросами, всегда можно рассказать какую-нибудь жалостливую историю, а белым до него нет дела, если только они не пожелают развлечься.
Через несколько дней пути он начал спокойно стучаться в задние двери симпатичных домиков и говорить черным поварам или белой хозяйке, что ищет работу: полоть сорняки, мыть, пахать, собирать что-нибудь, и что он живет по соседству. Спустя неделю-другую он отправлялся дальше. Так он прожил весь конец лета и только в октябре добрался до города, в котором была автобусная станция. С заплетающимся от восторга языком и с мрачным предчувствием в сердце он подошел за билетом к кассе для цветных.
— Сколько стоит билет до Макона, сэр?
— Одиннадцать долларов. Пять пятьдесят для детей до двенадцати.
У Чолли было двенадцать долларов и четыре цента.
— Сколько тебе?
— Только двенадцать, сэр, но мама дала мне десять долларов.
— Ты самый большой двенадцатилетка, какого я только встречал.
— Пожалуйста, сэр, мне нужно в Макон. Моя мама больна.
— Ты вроде сказал, что мама дала тебе десять долларов.