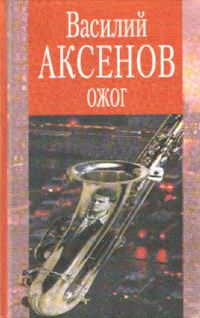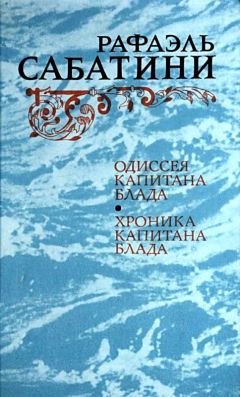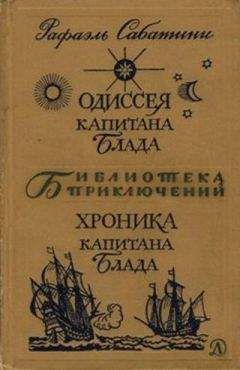Патрик бросил танцевать.
– Сейчас, старик, вонища ползет по Европе, – прохрипел он.
– Неужели и в нашем Лондоне вонища?
– Везде вонища!
– Ты прав, – подумав, согласился Хвастищев, – везде вонища. Шестидесятые кончились, а семидесятые не начались, да и начнутся ли? Прага – Чикаго…
– Компьютеры, между прочим, дают ободряющие прогнозы, – сказал Тандерджет, влез в ямку «Смирения» и улегся валетом. – Мы еще с тобой, Радик, вспомним молодость…
– Иди на хер, Пат, – сказал Хвастищев. – Давай-ка лучше вспомним, ночь сейчас или утро, сколько прошло времени, и придумаем, как нам опохмелиться.
– Посмотри, что я нашел на столе. – Тандерджет протянул Хвастищеву листочек бумаги, на котором крупными ученическими буквами было начертано:
Радий Аполлинариевич и вы, Патрик Тандерджет!
Живи и жизнью наслаждайся!
Умей людей распознавать!
Коль встретишь добрых, им вверяйся!
А злых старайся избегать!
Благодарим за приятно проведенное время. Мы уезжаем в Загорск, есть надежда поступить в монастырь. Пока наш адрес – город Загорск, Московской области, фабрика мягкой игрушки, общежитие. Просим нам не писать.
Вечно ваши Тома и Клара.
Тома и Клара, вот как звали девчонок! Одна небось член месткома, комсомолка, гиревичка, кусачка; другая – цыганистая, слезливая блядюшка, подавальщица, продавщица… Где же мы их подцепили и что с ними делали? Почему Загорск, откуда мягкие игрушки?
Хвастищев силился что-нибудь вспомнить, что-то вдруг начинало шевелиться в мозгу, но вдруг по самой грани соскальзывало в полную неразбериху, в мутный хаос, где нет никаких координат, в иное измерение, и это было страшно. Он понимал, что это фокусы похмелья, но легче от этого не становилось.
– Пат, ты что-нибудь помнишь? Сколько времени мы пьем? Что мы делали?
– Единственное, что я помню, – сказал Тандерджет, – это наш разговор о Луне.
– Мы говорили о Луне? – осторожно спросил Хвастищев.
– Неужели не помнишь? Мы с тобой долго и детально обсуждали вопрос контакта между нашими лунными станциями. Напомню, мы сошлись, что глупо работать на одной планете и не общаться друг с другом. В Антарктиде общаются уже сто лет, а у нас на Луне все еще играют в секреты Полишинеля. Следующий раз я не полечу, если не будет решена эта дурацкая проблема. Мы не дикари, чтобы копаться поодиночке в лунной пыли. Никаких тайн давным-давно нет. Уверен, что даже с базой «Дуньфунь» возможен контакт! – Американец раскалился, размахивал руками, стучал кулаком по мрамору, пылал глазами, как будто и в самом деле речь шла о каких-то реальных проблемах.
Хвастищев понял, что его приятель-янки побывал этой ночью еще дальше, чем он, только, может быть, ездил в другом направлении.
– Ты о китайцах говоришь, Пат? – спросил он осторожно.
– А почему бы нет?! Они такие же ученые, как мы, и так же рискуют жизнью и так же давятся, когда глотают косм-сосидж или мун-вота. По идее, надо соединить все наши туннели и образовать интернациональный город на Луне. Нужно немедленно ставить этот вопрос в Объединенных Нациях! Если уж на Земле нет мира, то пусть хотя бы на Плевательнице восторжествует разум!
– На какой плевательнице? – еще более осторожно спросил Хвастищев.
– Ты меня удивляешь! – вскричал янки. – Не ты ли первый сказал, что она с полпути похожа на плевательницу? Разве не помнишь, как мы хохотали до самой высадки?
– А ты что же, высаживался на Луне, Пат? – тихо-тихо спросил Хвастищев.
– Потрясающе! – завопил Патрик совершенно здоровым голосом, напомнившим прежние здоровые молодые годы, пляж и водные лыжи, мускульные радости и ветер в голове. – Ты хочешь сказать, что я оставался на орбите, когда высаживались Планичка и Хартак? Ты не рехнулся, Радик? После высадки Хартака и ты, и я не менее десяти раз побывали на Плевательнице и жили там по три месяца и дольше.
Он приложил ко лбу Хвастищева свою холодную руку и в этой позе на некоторое время застыл, превратился как бы в нарост на теле «Смирения». Бедный Пат! Теперь он так и будет сидеть на хвосте мраморного динозавра, пока скульптор не срубит его отбойным молотком. Но, может быть, и
скульптор уже давно прирос? Вот это будет неприятность – ни поссать, ни опохмелиться.
Хвастищев, сама осторожность, перекинул ноги и вылез из ямки.
– Ну как, Пат? – спросил он. – Может быть, встанешь?
Тандерджет вдруг выскочил из ямки легко, как петрушка. У Хвастищева от сердца отлегло.
– Ну, вспомнил о Луне? – Тандерджет, добродушно хихикая, потрепал друга по плечу.
– А там и базы сейчас есть? – спросил Хвастищев.
– Конечно, есть. Четыре. Наша, ваша и две китайских.
– А-а-а, вот теперь вспомнил.
– Ну, хорошо, – вздохнул Патрик, – а то я уже стал бояться за тебя.
Он пошел к выходу из мастерской, а Хвастищев сзади перекрестил его спину.
Москва была совершенно пустынна. Под зеленым небом тускло светился ее асфальт, в темени на перекрестках мигали светофоры, кипела листва на бульварах. То ли ночь, то ли утро, то ли вечер, то ли перед атомной бомбежкой, то ли после…
Они шли по бульвару, и листва кипела над ними, и, как всегда, их сводила с ума эта кипень, и они были близки к счастью, им не хотелось, чтобы бульвар слишком быстро кончался, им хотелось, чтобы он вывел их в старый Данциг, на остров Ситэ или в Вену.
– Хелл… хелл… листва кипит под ветром… – бормотал Патрик, – знаешь, в детстве и юности, когда надо мной закипала листва, я видел, как «Мэйфлауер» поднимает паруса и возвращается домой, в старую Европу.
Хвастищев не ответил, его вдруг продрал озноб, и ноги неожиданно отказали ему. Тандерджет оглянулся и увидел, что друг его стоит посреди аллеи, вперив взгляд в листву.
– Что с тобой, Радик?
– Пат, посмотри-ка – часы! Видишь, среди листвы часы висят!
– Вижу. Полчетвертого. Значит, дело уже к утру идет. – А может, вечер? – Хвастищева стала охватывать дрожь,
и он затрепетал вдруг на глазах у товарища, словно листва.
– Спокойно! – гаркнул Тандерджет. – Полчетвертого после полудня летом совсем светло. Это полный день, а не вечер.
– А ты уверен. Пат? Уверен, что лето сейчас?
– Да посмотри же ты вокруг, остолоп! Видишь, листья зеленые! А теплынь-то какая! Сейчас лето!
– Ой ли, Пат?! Ой ли?! Меня вон дрожь бьет! Разве не видишь?
– Дать бы тебе по зубам, Радик! Небось перестал бы трястись!
В листве вдруг появился Ужас. Потом он перекинулся и на небо, на розовеющие верхние этажи домов, но главный Ужас, конечно, скрывался в словах «половина четвертого», и они колотились в горле Хвастищева, словно агонизирующий воробей. Единственным человеческим явлением в мире распространяющегося ужаса были глаза Патрика, но и на них уже начала ложиться тень солнца.
– Ой ли, Пат?! Ой ли?! Утро, говоришь? Север, говоришь? Юг? – Хвастищев погибал, но хватался еще за малейшую уловку, словно пытаясь еще обмануть непостижимый и не верящий ни во что Ужас, но вот не выдержал и сломался, заплакал. – А вдруг часы эти стоят?
Потом он увидел летящий в лицо кулак товарища, опрокинулся на спину и неожиданно не умер, а стал просматривать цветной панорамный
В ту ночь в театре на балконе ночи «Севильского цирюльника» давали
и НЕДОДАЛИ!
По зеленым шторам я полз наверх, чтоб в книгу предложений вписать мою любовь,
любовь к Россини.
Россини милый, юный итальянец, твоя страна, твои ночные блики, твои фонтаны, девушки и флейты обманом мне НЕДОДАНЫ сполна!
Меня надули явно с увертюрой, мне недодали партию кларнета, в России мне Россини не хватает, и это подтвердит любой контроль!
Милейший Герцен, не буди Россию! Дитя любви, напрасно не старайся! Пускай ее разбудит итальянец, бродяга шалый в рваных кружевах!
Я полз по шторам к вышнему балкону, минуя окна, в коих поэтажно струилась Австрия и зеленело Осло, мерцала Франция и зиждился Берлин.
Внизу добрейший участковый Ваня гулял, лелея меховой подмышкой массивную, как Гете, книгу жалоб, насвистывал пароли стукачам.
А стукачи, отважная дружина, трясли ушами, словно спаниели, скакали грубошерстным фокстерьером, бульдожками разбрызгивали грязь.
А на балконе в театральном громе, средь облаков, над крышами России белейшая нежнейшая Розина плела интриги сетчатый чулок.
Меня ль ждала? Чего ей недодали? В Италии потребность в коммунизме, по слухам, увеличилась. Марксизмом насыщен, но не слишком, их Пьемонт.
Я удалялся вверх, а КНИГА ЖАЛОБ огромной всероссийской увертюрой гремела под ногами. Битва века там шла уже четырнадцать веков.