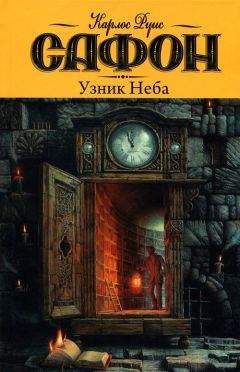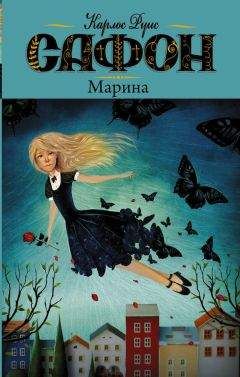— Во всех квартирах расположение комнат одинаковое? — спросил я.
— В тех, что под номером два и выходят на улицу, — да.[36] Но так как это мансарда, здесь все немного по-другому, — объяснила консьержка. — У кухни и чулана есть слуховые оконца. Вдоль по коридору — три комнаты, в конце — ванная. Довольно удобно, похожая квартира у моей Исабелиты, правда, теперь здесь как в могиле.
— А вы знаете, какую комнату занимал Хулиан?
— Первая дверь — спальня, вторая ведет в самую маленькую комнату. Скорее всего, это она и есть.
Я углубился в коридор. Краска лоскутами свисала со стен. Дверь в ванную была приоткрыта. Из зеркала на меня смотрело лицо. Оно могло быть моим — или той сестры Хулиана, что жила в зеркалах. Я попытался открыть вторую дверь.
— Она заперта на ключ, — сказал я.
Женщина удивленно посмотрела на меня.
— Но в дверях нет замков.
— В этой есть.
— Наверное, его врезал старик, потому что в других квартирах…
На пыльном полу я обнаружил цепочку следов, которые вели к запертой двери.
— Кто-то входил в комнату, — сказал я. — Совсем недавно.
— Не пугайте меня! — вскинулась консьержка.
Я подошел к другой двери. Замка не было. Я толкнул ее и она с ржавым скрипом легко отворилась. В центре стояла полуразвалившаяся кровать с балдахином, желтые простыни напоминали саван. В изголовье висело распятие. На комоде — небольшое зеркальце, тазик для умывания, кувшин. Рядом стул. У стены стоял шкаф с приоткрытыми дверцами. Я обогнул кровать и оказался у ночного столика, накрытого стеклом, под которым можно было разглядеть старые фотографии, извещения о похоронах и лотерейные билеты. На столике стояла музыкальная шкатулка из резного дерева, рядом лежали карманные часы, на которых навсегда застыло время — пять двадцать. Я попытался завести шкатулку, но после шести нот мелодия захлебнулась. В ящике ночного столика я обнаружил пустой футляр для очков, щипчики для ногтей, обтянутый кожей флакон и медальон с изображением Богоматери Лурдской.
— Где-то должен быть ключ от той комнаты, — сказал я.
— Наверное, он у управляющего. Нам бы поскорее уйти отсюда…
Мой взгляд наткнулся на музыкальную шкатулку. Я открыл крышку: внутри, блокируя механизм, лежал золотистый ключ. Я вынул его, и шкатулка снова заиграла. Я узнал мелодию Равеля.
— Думаю, это тот самый ключ, — улыбнулся я консьержке.
— Послушайте, если дверь заперта, то явно неспроста. Хотя бы из уважения к памяти умершего…
— Донья Аурора, если хотите, можете подождать меня в привратницкой.
— Вы сам дьявол и есть. Ладно, идите, открывайте.
Вставляя ключ в замок, я ощутил на своих пальцах легкое дуновение холодного воздуха из отверстия в замочной скважине. На двери в бывшую комнату своего сына сеньор Фортунь установил огромный засов, почти в три раза больше щеколды на входной двери. Донья Аурора наблюдала за мной с некоторой опаской, словно я собирался открыть ящик Пандоры.
— У этой комнаты окна выходят на улицу? — спросил я.
Консьержка отрицательно покачала головой:
— Здесь есть крохотное окошко, выходящее на чердак.
Я медленно открыл дверь. Комната казалась глубоким колодцем, наполненным темнотой. Тусклый свет за нашими спинами едва мог справиться с непроницаемым мраком, простиравшимся перед нами. Окно, выходившее во внутренний двор, было заклеено пожелтевшими от времени газетами. Я сорвал несколько листков, и узкий луч мутного уличного света пронзил густую тьму.
— Господи Иисусе… — прошептала консьержка. Комната была заполнена распятиями, десятками распятий. Они свешивались на концах шнурков с потолка, покачиваясь от потока воздуха, они были прибиты к стенам. Распятия были везде: в каждом углу, вырезанные ножом на деревянной мебели, нацарапанные на плитках пола, нарисованные красной краской на зеркалах. На покрытом густой пылью полу виднелись следы, идущие от самого порога вокруг старой кровати с голым пружинным матрацем, от которой остался лишь остов из проволоки и трухлявого дерева. В другом углу у окна стоял закрытый секретер, увенчанный тремя металлическими распятиями. Я осторожно открыл его. В щелях деревянной шторки не было пыли, и я предположил, что его совсем недавно открывали. Внутри я насчитал шесть ящиков, замки были взломаны. Один за другим я внимательно осмотрел их. Пусто.
Присев на корточки у секретера, я пальцами провел по глубоким царапинам на дереве. Я пытался представить себе руки Хулиана, вырезающего эти иероглифы, значение которых, известное только ему одному, затерялось где-то во времени. В глубине секретера я нашел стопку тетрадей и стакан с карандашами и ручками. Взяв одну тетрадь, я мельком пролистал ее. Какие-то рисунки, слова, математические примеры, обрывочные фразы, цитаты из книг, незаконченные стихи… Все тетради казались одинаковыми. Некоторые рисунки повторялись страница за страницей, обретая новые штрихи и оттенки. Мое внимание привлекла фигура человека, который словно состоял из языков пламени. Другое изображение представляло собой то ли ангела, то ли змею, обвившую крест. И в каждой тетради я находил множество набросков, в которых угадывался силуэт огромного дома, странного, украшенного башнями и готическими сводами. Штрихи и линии были четкими и уверенными, молодой Каракс обладал недюжинным талантом рисовальщика, но все рисунки так и остались эскизами.
Я уже собирался положить последнюю тетрадь на место, как вдруг что-то выскользнуло из нее и упало мне под ноги. Это была фотография той самой девушки с полуобгоревшей картинки. Девушка была запечатлена в великолепном саду, а сквозь кроны деревьев проступали очертания дома, наброски которого я только что видел в тетрадях Каракса. Я сразу узнал его: это был особняк «Эль Фраре Бланк»[37] на проспекте Тибидабо. На оборотной стороне фотографии от руки было написано:
Любящая тебя,
Пенелопа
Я спрятал ее в карман, закрыл секретер и улыбнулся консьержке.
— Уже посмотрели? — спросила она, торопясь поскорее уйти из этого странного места.
— В общем да, — сказал я. — Вы говорили, что некоторое время спустя после отъезда Хулиана в Париж на его имя пришло письмо, но сеньор Фортунь велел вам его выбросить…
Консьержка мгновение колебалась, но потом утвердительно кивнула:
— То письмо я спрятала в ящик комода в гостиной, на случай, если француженка когда-нибудь вернется. Оно все еще должно быть там.
Мы подошли к комоду и открыли верхний ящик. Конверт цвета охры лежал в груде остановившихся часов, потерянных пуговиц и монет, вышедших из обращения лет двадцать назад. Взяв конверт, я внимательно осмотрел его.
— Вы читали письмо?
— Да за кого вы меня принимаете?
— Не обижайтесь, это было бы естественно, принимая во внимание данные обстоятельства. Ведь вы думали, что бедняга Хулиан умер…
Пожав плечами, консьержка, не глядя на меня, пошла к двери. Воспользовавшись моментом, я спрятал конверт в карман пиджака и закрыл ящик.
— Послушайте, вы только не подумайте ничего плохого… — сказала, остановившись, привратница.
— Да нет, ну что вы. О чем там говорилось?
— Письмо было о любви. Почти как в радиосериалах, но только намного печальнее, это точно. Похоже, что все в нем — правда. Я чуть не расплакалась, когда читала его.
— У вас такое доброе сердце, донья Аурора.
— А вы сущий дьявол.
В тот же вечер, простившись с доньей Ауророй и пообещав регулярно сообщать ей все, что мне удастся разузнать о Хулиане Караксе, я направился к управляющему домом. Сеньор Молинс, знававший когда-то и лучшие времена, прозябал теперь в пыльном кабинете, погребенном в полуподвале на улице Флоридабланка. Молинс был тучен и улыбчив, он крепко сжимал в зубах недокуренную сигару, которая, казалось, приросла к его усам. Было невозможно определить, спит он или бодрствует, так как дышал он со свистом, похожим на храп. У него были жирные прилизанные на лбу волосы и плутоватые маленькие глазки. Сеньор Молинс был одет в костюм, за который ему не дали бы и десяти песет на рынке Лос Энкантес, но его жалкий вид с лихвой компенсировал кричащий галстук гавайской расцветки. Судя по обстановке, его контора теперь годилась лишь на то, чтобы управлять мышами в катакомбах Барселоны времен Реставрации.
— У нас тут небольшой ремонт, — пояснил Молинс извиняющимся тоном.
Чтобы сойти за своего я пару раз будто невзначай обронил имя доньи Ауроры, намекая на то, что наши семьи много лет дружат домами.
— Да, в юности она многим вскружила голову, — с мечтательным видом начал Молинс. — С годами она располнела, впрочем, и я уже не тот, что прежде. В вашем возрасте я был настоящий Адонис. Девушки на коленях умоляли, чтобы я проявил к ним благосклонность, а то и ребенка сделал. Нынешний-то двадцатый век — дерьмо. Так чем могу быть вам полезен, молодой человек?